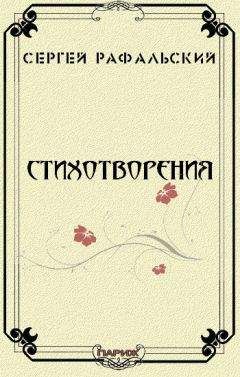Уже лежа в постели, отец Афанасий все еще раздумывал о Нагорной Проповеди и, наконец, не удержавшись, щелкнул выключателем и снова раскрыл Евангелие, но неземного эха больше не было. Слова представлялись пустыми и неубедительными… Усмехнувшись, отец Афанасий захлопнул книгу, закрыл свет и сразу упал в сон.
Вскоре он стал аккуратно ходить в церковь. Вначале ему было трудно и нестерпимо скучно. Однако, обладая счастливой способностью увлекаться каждым делом, которым вынужден был заниматься, он — мало-помалу — стал следить за богослужением с привычным удовлетворением меломана, в тысячу первый раз слушающего всем известную оперу и отмечающего — из ненасытной коллекционерской жажды — все удачи и неудачи исполнения и постановки. Активные церковники его заметили. С ним познакомились. Его представили настоятелю, в свое время отбывшему длительную ссылку, и отец Афанасий совсем пленил белого, как лунь, похожего на «ветхаго деньми» Саваофа, протоиерея, признавшись ему, что чувствует склонность к священству…
…Еще даже не вполне пожилой — из поколений, вплотную подошедших к революции — с короткими волосами и маленькой подстриженной бородкой, епископ казался ушедшим в народ интеллигентом конца прошлого века. На самом же деле — он как раз «вышел из народа». Потомственного крестьянского сына привело в Церковь твердое чувство, что эта, готовая погаснуть под злыми ветрами, лампада — последний источник света в материалистической тьме наступающей мировой ночи.
Кряжистой, как вековые леса родной области, и несокрушимой, как они, вере епископа в самые тесные годы беспощадных гонений звездой надежды сияло, данное Спасителем апостолу Петру обещание, что «врата адовы не одолеют Церковь».
Но вот наступила пора «худого мира», и все чаще и чаще стало казаться, что уже одолевают… Сообщение протоиерея — настоятеля самого большого городского прихода — об одном чудесном обращении упало последней каплей в переполненный сосуд архипастырских горестей… Насколько хватала память епископа, он не мог припомнить ни одного настоящего партийца, обратившегося ко Христу. Крестили ночью детей или тайком венчались в церкви простые шакалы режима. При повороте ветров они, как флюгер, сразу изменили бы ориентировку. Но последняя когорта верных — отборный, испытанный верховный легион Сатаны — не сдается никогда…
Епископ еще раз перечитал доклад протоиерея и, повернувшись к открытой двери, негромко позвал: «Отец Алексей!» Никакого ответа не последовало.
— Алексей Степанович!
Снова молчание.
Епископ постучал ручкой епархиальной печати по столу:
— А-лек-сей!
И, наконец, выйдя из себя, совершенно повысил голос:
— Алеша, собачий сын!
За стеной кто-то заворошился, послышались шаги и в комнату вошел парень, остриженный в скобку, с курчавым пушком только на подбородке, в черной куртке и черных, вправленных в голенища сапог, штанах.
— Что ж это ты?!
— Спал-с, — совершая положенное метание, откровенно признался исполняющий обязанности келейника о. дьякон.
— Ну, ладно. Садись вот и слушай, — и епископ прочел диакону выдержки из протоиерейского сообщения. — Ну, что ж ты думаешь?
— Туфта-с! — с тяжелой нескрытой злобой сказал келейник: — беспременно-с подсылают! Никакой он не „новый воин Христов», а простая наседка!
… Патриарх слушал, не спуская с епископа холодных серых, под бледными — с просинью — старческими веками, глаз. Его красивое барское лицо было неподвижно. Тонкой, с деликатными ногтями рукой, он слегка разбирал седые пряди артистически подстриженной ассирийской бородки.
Когда епископ кончил, он опустил руку на стол ладонью вверх и сказал, сжимая и разжимая (чтоб прогнать онемение плохого кровообращения) пальцы:
— Я не совсем понимаю вашу тревогу, владыко… Если даже — как вы думаете — его подсылают, то что нам до того? Ведь скрывать нам нечего: церковной конспирации у нас нет.
— Но он же, Ваше святейшество, будет совершать Таинства! То есть — я хочу сказать, что возможный безбожник будет предлагать Св. Дары!
По чертам лица Патриарха как будто пробежал легчайший ветерок:
— Нам не дано читать в сердцах людей, Владыко… Священники не маги. Таинства совершаются не потому, что предстоящие Св. Престолу иереи их достойны. Так хочет Бог… Если бы Св. Дары пресуществлялись только в чашах, возносимых праведными руками — причастие стало бы своего рода игрой вслепую, с очень небольшими возможностями выигрыша, позволю себе заметить… И, наконец, — если мы его отвергнем только по одному подозрению, без всякого канонического повода, мы тем самым заставим пославших его подозревать, что нам есть что скрывать. Поэтому я полагаю, Владыко, что вы можете с чистым сердцем постричь представленного вам о. протоиереем кандидата. Затем мы направим его в Лавру, где он будет помогать братии при наплыве богомольцев и пройдет курс богословских наук. А впоследствии — если поведение его с точки зрения канонов церковных будет достойным — настоятель, отец архимандрит, вместе с его духовником, решат — следует ли его послать на приход или ему полезнее будет остаться в монастыре.
«Нашла коса на камень», с удовлетворением подумал, выходя из патриаршего особняка, несколько успокоенный епископ.
«Не дай Бог на его месте праведника, да еще исповедника — пропали б мы, как мыши в половодье!»
На пороге избушки, хранившей скромные пчеловодческие снасти, сидели в свободные часы помогавший монаху-пасечнику преподаватель логики и пришедший побеседовать с ним до вечерни на высокие темы о. Афанасий.
Крепко пригревало весеннее солнце; слетаясь со всех сторон, то и дело задевали невидимые струны золотые искры пчел; над сочной яркостью первой травы — распушившись — красовались цветущие деревья. Одна маленькая яблонька — еще садовой ребенок — растопырив тоненькие ручки веточек, несла в них, еле-еле удерживая, огромную охапку розово-белых цветов и, облекаясь теплом и светом, казалось, покряхтывала от восторга.
Глядя на нее, о. Афанасий подумал, что, если бы существовал рай, — в нем должны были бы расти такие деревья… Он уже начинал привыкать к монастырским тишине и покою. В общем, приспособиться к быту и обрядам церковников оказалось довольно просто. Помимо счастливых свойств самого отца Афанасия, ему очень помогло странное подобие — схожесть — тождество между отправлениями церковного культа и манерой осуществления официальной партийной общественности. Разумеется — Церковь живет уже почти 2 тысячи лет, а партия всего полвека, но курс ею взят приблизительно тот же. Как иконы праведников, так и портреты вождей пишутся всегда по строго установленным канонам: одному полагается протягивать вперед зовущую руку, другому — закладывать ее за борт шинели. Один глядит строго и взыскующе, другой милостиво и с поощрением… Оформление залов собраний и клубов — явно проводит принцип иконостаса и церковной росписи, а сами отчетные заседания и митинги от великой ектеньи отличаются только темами… Так что, когда — в конце богослужения — о. Афанасий выходил на амвон, обычные слова: «молитвами святых отец наших…» выходили у него так же просто и легко и так же не обязывали сознания, как и выступление очередного ударника, который — перед микрофоном — призывает дорогих товарищей «по заветам любимых вождей наших» выполнить и перевыполнить норму и дать Великой Родине добавочные тонны чугуна и стали.
Хуже получалось с людьми… Никто не мог упрекнуть молодого монаха ни в небрежности, ни в нерадении, ни — тем более — в неблаговидном поведении и, тем не менее, какой-то холодок осторожности лежал между ним и прочими и не таял никак… Его поддерживало, кроме развивавшегося у затравленных церковников шестого чувства, и то обстоятельство, что о. Афанасий никогда не упускал случая заявить о своей стопроцентной преданности родному правительству, великой революции и даже — с религиозными оговорками, разумеется, — любимой Партии. Все же прочие были лояльными гражданами и только.
Похоже, что именно эта всеобщая отчужденность заинтересовала преподавателя логики. Поговорив с о. Афанасием вне курса — старик увяз еще больше. Диаматская натасканность молодого иеромонаха внушала ему безумную надежду обойти неприятеля, так сказать, с тыла. Если когда-нибудь как-нибудь восстановится свобода религиозной пропаганды — этот, знающий на зубок всю партийную словесность монах, как Самсон филистимлян ослиной челюстью, будет громить антирелигиозников их же собственным диаматом, если, разумеется, поставить его знания на соответствующие рельсы, прокорректировать и дополнить их.
Старый — еще «николаевский» интеллигент, подававший некогда надежды «кандидат прав», — преподаватель немыслимо страдал от изгнивающего в нем без употребления трибуна. Молчать, скрываться и таить было для него самой египетской казнью всех этих несчастных лет. Отец Афанасий оказался достаточным поводом, чтоб разговеться наконец как следует.