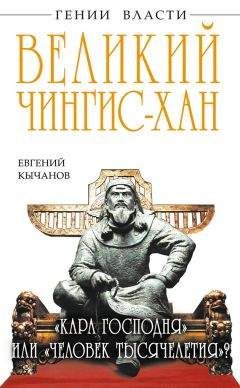Но он же захотел, чтоб однажды я совершил свое путешествие на край Руси, на границу жизни, чтобы хлебнул и горя и лиха. Я еще не остыл от молодости, думал о любви и о славе, но он захотел, и я подчинился. Снова попытка расстаться с югом, с беспечным легкомысленным югом — на сей раз в прямом, естественном смысле.
В том-то и дело, что подчинился. Это и смущало меня. Смущало, что выбор мой был не свободен, что принял решение в духе традиции. Она же освящала обязанность злосчастной русской интеллигенции участвовать в жизни меньшого брата и возвращать ему некий долг.
Я соглашался быть должником, пусть даже толком так и не понял: откуда возник этот странный долг? Родился я на свет не в усадьбе. То, что отец подался в лабаз, не означало, что в моих жилах вдруг потекла голубая кровь. Да, я прошел факультетский курс и приобрел полезные знания, далее беспощадным трудом я отворил себе дверь в словесность — в чем же она, моя вина? Вроде она-то и будет свидетельствовать, что я отнесен к интеллигенции, но что значит слово "интеллигенция", мне так же неясно, как слово "народ". Я всякий раз убеждаюсь все в том же: любое множество мне чужое. Доброе или недоброе чувство может созреть во мне лишь при встрече с тем или иным человеком, который не растворен в толпе.
Я делал что надлежало делать, но втайне мне было не по себе. Хотелось сказать господину в зеркале: коль скоро ты образец независимости, то почему же я должен быть таким, каким хотят меня видеть?
Поныне мне трудно в себе разобраться. Нет, все же тут был не только долг, не только ответ на ожидания. И даже не только мое желание отгородить себя от юмористики, от шутовского псевдонима и от журнальной своей поденки — тут был еще зов литературы. Он и повлек меня за собой.
Не знаю, насколько подрос мой вес в неумолимых очах общественности, но мой писательский опыт вырос. Соприкоснуться с неведомой жизнью, текущей одновременно с моею, увидеть распятую страну во всем ее неприкрашенном облике уже по ту сторону зла и добра, дойти до ее кровавого дна — все это было важно и нужно. Для самосоздания и для работы, которая стала моей судьбой. Но нет у меня никаких сомнений, что в этом воспитательном странничестве я и растряс свое здоровье. Болезнь стала частью цены, которую от меня потребовало мое породнение с образом в зеркале.
Поистине жестокая плата за это согласие южанина жить по суровым законам Севера. За что только выпала эта беда? К тому же в России ты мечен словцом, похожим на клеймо каторжанина. Чахоточный. Стоит произнести — и возникает перед тобою тощее и скудное тело, впалые щеки, куриная грудь, надсаженная заливистым кашлем.
Невесело однажды попасть в эту печальную касту отверженных и оставаться в ней до конца. Невесело ощущать, как в легких вдруг набухает растущий ком, рвущийся из тебя наружу. В который раз прижимать платок к белым губам и с жалкой надеждой приглядываться к своей слюне — а вдруг сегодня она прозрачна и нет в ней проклятых алых прожилок. И скучно и тягостно мастерить бумажные фунтики, чтобы после медленно сплевывать в их раструбы заклокотавшую в горле кровь.
Уже давно я должен был кончиться. Живу я на свете против всех правил. Живу вопреки медицине, природе, элементарному здравому смыслу. Однако ж любая отсрочка не вечна. Поступки мои иной раз казались и неразумными и невзвешенными, но, делая их, я исходил из близости прощального дня. Даже священные узы супружества стали поэтому возможны. Мне их носить совсем недолго!
Этой не слишком достойной шутке есть одно грустное извинение. Можно смириться даже с чахоткой. В этой кручине все же таится некий избраннический оттенок. Она назначает своими жертвами этаких светлых идеалистов, этаких брадатых подвижников. Мои же бациллы оказались особо злокозненного свойства. Они проникли еще и в кишечник. С их стороны это было свинством. В конце концов, можно лишить здоровья, не сделав при этом из человека настолько неаппетитное зрелище. Моя одинокость была неслучайной. Хотелось обойтись без свидетелей.
Когда-то смотрел я на стариков, чувствуя, как обмирает сердце. Меня мучительно занимало их непонятное существование на зыбкой, неуловимой грани. Оно мне казалось непостижимым, как ночь осужденного на казнь. С волнением, с боязливой дрожью я вглядывался в их лица: как страшно! Ты человек этого мира, они пребывают уже в другом.
Я вглядывался в увядшие шеи, которые, казалось, раздвоились — два хлипких скукожившихся мешочка. Я видел мельчайшие паутинки на тыльной стороне их ладоней, я всматривался в короткий шажок и отмечал искательный взгляд, каким они смотрят на молодых. И сердце мое стонало и выло от ужаса, жалости и стыда за то, что я еще юн и крепок.
Теперь мое чувство не столь прозрачно. По возрасту им в сыновья годишься, а смотришь как на малых детей. Если не с завистью, то с раздражением слушаешь горестное кряхтенье. Не странно ли, — люди живут до шестидесяти, иным из них даже по семьдесят лет — и это кажется им естественным, они изумляются всякой немощи!
Но видишь и молодых людей, уверенных, что они бессмертны, угадываешь под натянувшейся тканью игру могучих бедер и ляжек, смотришь на хоровод пичужек с их ожиданием брачной ночи, полным трусливого нетерпения, слушаешь, как вокруг тебя звенит немудрящий праздник плоти, и больше не хочется в нем обнаруживать ни скуки, ни пошлости, ни пустоты. Вдруг возникает стадное чувство — хочется в этот же хоровод. Проснуться каким-нибудь кавалергардом, норовистым великолепным кентавром, частью породистого коня.
Впрочем, справедливости ради должен признать, что мой недуг приблизил меня к человеку в зеркале. Во всякой болезни есть свой смысл. Она помогает увидеть мир из параллельного пространства, оставшись в сфере его притяжения. Не нужно настраивать себя на строгий философический лад — естественным образом погружаешься в колодезную глубь размышлений. Можешь часами сидеть-посиживать наедине с самим собою, совсем не испытывая уныния — твое одиночество не тяготит. Напротив, в нем все больше уюта, больше свободы от злобы дня.
В юности я был готов к тому, чтобы почувствовать вкус страдания, хотя и не вкладывая в него модного жертвенного смысла. "Прекрасен терн страданья за людей", — писал один надтреснутый малый, такой же чахоточный, как я, не вытянувший и четверти века. Нет, я — совсем об ином страдании. Оно, точно горчичное семя, посеяно в нас, чтоб однажды взойти. Я ощущал, что оно богато, что зрелость без него невозможна. Некогда Пушкин хотел этой жизни не оттого, что она ему выпала, а для того, чтоб страдать и мыслить. Ибо одно с другим неразрывно.
Мне удалось себя убедить, что именно таково условие истинно творческого бытия. Что нужно быть готовым принять его. Готовность моя оказалась нелишней. Ее потребовалось с избытком.
Все же у этой кары господней есть и бесспорное оправдание — она облегчает переход. Страх, что сотряс меня в раннем детстве при мысли о будущем исчезновении, мало-помалу уходит в тень. Неизлечимая болезнь, пожалуй, излечивает от ужаса. Став будничным, он разжимает клещи.
Господи, как тихо вокруг! Тихо, как в потусторонней жизни. Не шевелится ничто на земле, даже травинка под ветерком. Замерли облака надо мною, дивно похожие на лебедей, точно устали плыть по небу. Сколько же мне пришлось поскитаться, чтобы причалить к этому городу, который сочится благополучием. В этой опрятной ухоженной жизни будто читается некий вызов. Ловишь себя на тайной досаде и, чтоб хоть несколько приподнять нашу сумятицу, грязь и бестолочь, мои сограждане патриотически в тысячный раз надувают щеки и важно несут привычную чушь. Что-нибудь про Обломова, Штольца, про то, как пресно и плоско бюргерство в сравнении с нашей славянской бездонностью и богатырской беспорядочностью. Всем этим толкам двести лет, а то и больше, и нет им сносу. Только и знаем — брезгливо морщиться, видя необычный уклад.
Иной раз подумаешь: если бы не было этой безмерно чужой нам жизни, чужих людей, пришлось бы их выдумать. Кого бы иначе мы поносили? Нам невдомек, как по-дикарски все мы обкрадываем себя, какой мы себя лишаем радости — ценить и уважать человека, где бы однажды он ни родился. Как просто было бы всем нам жить, если бы мы судили о нем, решая, плох он или хорош, добр он или зол — и только! Все прочее не имеет значения. Какой бессмысленной шелухой забиты наши слабые головы и сколько мусора в наших душах! Но стоит ли мечтать о несбыточном? Без этой ненависти к чужим нас солнце не греет, нам звезды не светят.
А по-другому и быть не может. Ибо человек, не свободный в любом своем проявлении, мерзок. Даже любовь к родным осинам выглядит у него холопски. Причем омерзительнее всего это холопство вольноотпущенника. Не существует душевной жизни, более жалкой и ущемленной, чем у вчерашнего раба, усаженного за барский стол. Воля с хозяйского плеча всегда оказывается не по росту. Особенно если в твоем естестве — врожденная нелюбовь к независимости. Самые добрые побуждения она ухитряется переиначить. Казалось бы, что мудрее, чем жить по справедливости и по душе — тем более на святой Руси они искони важней свободы. Однако ж в стране, где ее нет, душа развороченная, больная, и справедливость совсем особая, вся начиненная неприязнью. Талантливыми людьми увлекаются, но их не любят и, на поверку, желали бы видеть их заурядными, ничем не отличными от остальных. Так понимается справедливость под нашим дырявым северным небом. Горе тому, кто с нами не схож, и трижды горе, если он лучше. Ему укажут место в шеренге.