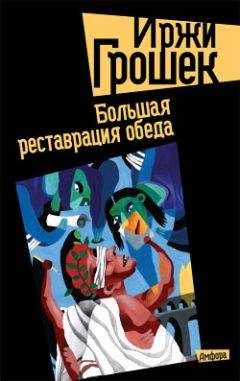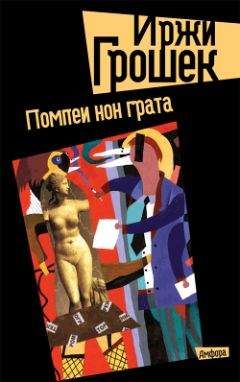И вот стали женщины интересоваться – что за диковину смастерил Кердон и какая от нее половая польза. Спорили до хрипоты, сравнивали до безобразия. Только одна женщина, которая напрочь решила отказаться от мужчин, соблюдала гормональный нейтралитет. И была у нее подруга по имени Корритто, ничего из себя особенного, но очень невоздержанная. «Последую, – говорит эта Корритто, – заразительному примеру! Отказываюсь от мужчин, только постепенно. Сперва, – говорит, – попробую, как у меня получится!» Взяла у нашей женщины вибромассажер и позаимствовала до сиесты следующего дня…
Едва первые лучи солнца коснулись черепичных крыш, поспешила наша женщина забрать свой вибромассажер, да попусту! Проклятая Корритто уже успела одолжить изделие Кердона другой подруге, по имени Бетасса… И от нее ушла наша женщина ни с чем – Бетасса поделилась вибромассажером с Носсидой. Носсида, в свою очередь, отдала эту штучку Метрихе, Метриха – Феллениде, а далее – от Альфы до Омеги…
Отсюда вывод и резолюция: прежде чем отказаться от мужчин – распрощайся с подругами!
– А я и не ездила к подругам, – сказала Вендулка. – Я просто путешествовала. И нечего тут гадости про женщин рассказывать.
– Это не гадость, – важно пояснил я, – а мимиямб нашего славного сатирика Герода. В вольном переложении, разумеется.
– Писатели! – выругалась тогда Вендулка. – Всего-то двадцать четыре буквы, а сколько самомнения!
– Двадцать четыре – это в латинском алфавите, – возразил я. – А в другом – тридцать три!
– Ты считаешь, – перебила меня Вендулка, – что писательские амбиции формируются в зависимости от алфавита?
– Нет, – поспешно заявил я. – Мне кажется, что лаконизм – брат бездельника, а жена – враг писательского гонорара!
– Да, – подтвердила Вендулка. – Твои гонорары врагу не пожелаешь!
Здесь назревал конфликт на почве литературных отчислений, и я поспешил его раздуть цитатой из Гомера:
– Скалы тотчас же столкнулись, но голубю зашибли только хвост!
Вендулка с симпатией посмотрела на свою сковородку.
– Это пророчество? – осведомилась она. – Или желание подраться?
Нет ничего лучшего, как в летний погожий день треснуть кому-нибудь по башке палкой. Для полноты ощущений. Впрочем, усиленно конфликтовать с Вендулкой я не собирался. Просто за эти три дня меня одолели местные хироманты…
Вначале была книга, и книга на вид – препаршивая. Тот хиромант, что торговал подобной литературой, заслуживал распятия и четвертования. Однако, лукаво подмигивая, он топтался тогда предо мной в ожидании щедрого вознаграждения.
– Сколько стоит эта макулатура? – уточнил я.
От возмущения хиромант закашлялся и злобно засопел, как будто в темном переулке столкнулся с литературным критиком.
– Что вы считаете макулатурой? – набычился он.
– Разные писькины истории, что вы таскаете моей жене, – невинно пояснил я, немного подумал и решил уточнить: – Задушевные романы из личной жизни всякого рода потаскух.
– Зато они написаны простым, человеческим языком! – парировал мой хиромант.
– Ага! – подтвердил я. – Чем проще потаскуха, тем популярней ее история. Я искренне сочувствую малютке, что в двадцать два года попала на панель, – могла бы и раньше. Но кто пожалеет читателей, которые думают, что все это случайно и милая девушка просто поскользнулась? Кто вернет мне тридцать драхм, а вместе с ними – иллюзию, что не каждая женщина идиотка?
– Между прочим, – сказал хиромант и потряс для наглядности книгой, – эта история совсем другого свойства.
– И какого же? – осведомился я.
– Ну, – хиромант почесался, поскребся и покряхтел, – я затрудняюсь определить жанр, но в целом книга читается на одном дыхании.
– Да тут же страниц не хватает! – заметил я. – Как можно читать ее в целом?
Книга и правда имела плачевный вид.
– Так вы будете брать или нет? – уточнил мой хиромант.
– Только за полцены, – заявил я. – И только ради садизма. Чтобы жена эту дрянь листала и обливалась слезьми!
– Верное решение! – согласился со мной хиромат. – Направленное на подавление женской активности в светлое время суток.
Тут хиромант пошатнулся, как будто его треснули сковородкой-невидимкой. После чего он схватился за голову и стал озираться по сторонам с пришибленным видом.
– Меня осенило! – пожаловался хиромант.
– И немудрено, – подтвердил я. – Вы помянули о женской активности и накликали муз.
В каждом доме полным-полно всякой нечисти – от моли до тараканов. Два года назад я оставил в кладовке тухлый роман, и у нас завелись музы.
– Кыш-кыш, проклятые! – завопил хиромант и принялся размахивать руками, думая предотвратить повторное нападение муз.
Да без толку! Потому что только их раззадорил, и музы принялись осенять хироманта с повышенным вдохновением!
– Ой! Ой! Ой! – вскрикивал мой хиромант, покуда не ослабел. Тогда он забился в угол, раззявил рот и сказал: – Идея!
– Вы зря ей сопротивлялись, – заметил я.
Хиромант оглянулся по сторонам и тихо спросил:
– А чем это меня оглоушило?
– Сковородкой, – пояснил я. – Обычное оружие муз, чтобы идеи лучше усваивались.
– Аж в голове гудит, – сообщил хиромант. – И хочется поделиться.
– Валяйте, – разрешил я.
– Вас ожидает странное путешествие, – принялся излагать хиромант. – Вы будете ехать в повозке без лошадей и хлебать «ячменный или пшеничный отвар, превращенный посредством брожения в некое подобие вина».[2] Я вижу попутчиков и попутчиц, но слышу только один голос. Он говорит, что надо опасаться Издателя.
– Видимо, здорово вам досталось, – посочувствовал я. – Создателя – знаю, а что за зверюга такая – Издатель?
– Понятия не имею, – развел руками хиромант. – Так говорят ваши музы со сковородками. И если взглянуть на мои шишки, то можно теперь составить практическое пособие по хиропрактике.
Делать было нечего, и я принялся пересчитывать шишки на голове хироманта. Чтобы тот не бравировал своими предсказаниями.
– Сегодня вторник? – уточнил я.
– Угу, – отвечал хиромант.
– Основание треножника перевернуто. – Тут я пришел к выводу, что нашел ключевую шишку, щелкнул по ней указательным пальцем и важно собщил: – Во вторник благоприятно оставить супругу и взять молодую наложницу с ребенком. Беды не будет!
– Вот как? – вздохнул хиромант. – Пойду брать наложницу. И не хочется, а что делать?!
Он сунул мне в руки книгу и, не требуя больше оплаты, направился к выходу. Расшаркался на пороге и был таков.
А я, немного подумав и слегка покочевряжившись, вызвал на бой письменный стол и время, за ним проведенное! Уселся и принялся сочинять, как я родился и вырос в городской библиотеке, где мой дедушка, из вольноопределяющихся, служил истопником…
Еще во времена Гальских походов Юлия Цезаря мой юный дедушка попал в плен и был продан в рабство с молотка. Его определили на строительство подъездных путей к Риму, где дедушка благополучно утопил своего бригадира в Понтийских болотах и дал деру. Через какое-то время его изловили и подвергли стремительной романизации, то есть высекли и обучили грамоте. А поскольку утопленный бригадир не мог появиться в суде, то криминальное прошлое моего дедушки так и сгинуло в болоте. И единственное, чего он всю жизнь опасался, – это пьеса Аристофана «Лягушки». «Бог его знает, о чем они там наквакают», – говаривал дедушка, изымал вышеназванные книги из городских библиотек и растапливал ими печи. Просвещенные римские владельцы моего дедушки, обнаружа подобную тягу к литературе, ошибочно предположили, что миру явился новый Геродот, а не Герострат, и отпустили его на волю. Дедушка тут же определился в ближайшее хранилище книг, где, сообразно своим интересам, расправился со всеми трактатами о водоплавающих. Потом женился, обрел наследников и генетически расположил меня к порче книг. Однако же всяческие мутации несколько отклоняют грядущие поколения от истинного пути – мне не привилось печное дело. Зато хирургические компиляции я полюбил с детства. Вырезать ненужный абзац, покромсать страницу, изъять у трагедии эпилог и присобачить его на новое место – милое дело для тех, кто понимает, что наша литература остро нуждается в критическом переосмыслении…
– А если переосмыслить некоторых писателей, – заявила Вендулка, – литературы и вовсе нет!
Большинство романов – гермафродиты. Андрогинные сочинения-гиены могут менять пол, гипнотизировать читателя, преследовать заходящее солнце и устранять авторское бесплодие. Идея двойственности, заключенная в романе, сбивает простодушного читателя с толку, лает на критиков и путает следы. А в Евразии, как говорят, водятся такие литературные гиены, что, наступив на тень человека, вызывают у него оцепенение. В единстве противоположностей у гиены рождается многочисленное потомство – книжная серия, и некоторые литераторы, погнавшиеся за этим потомством, сходят с ума и падают с лошади. Гиена же состоит в какой-то таинственной связи со всеми сочинителями, по собственному желанию изъясняется человеческим голосом и выкликает по имени того сочинителя, которого хочет растерзать…