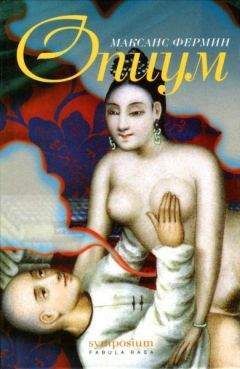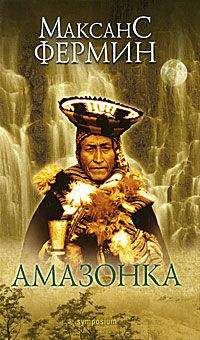А закончив петь, она наклонилась к нему и поцеловала. В тот миг, когда ее губы коснулись его, Иоганн снова погрузился в забытье.
9
Когда Иоганн очнулся, старший лекарь в лазарете при главной квартире перевязывал ему раны, дыша в лицо табаком и чесноком.
При этом он разговаривал с человеком, перепоясанным генеральским шарфом, на лицо которого падал свет сальной свечки.
— Скажите, доктор, этот солдат уже вне опасности?
— Для него, мой генерал, война закончена. Можете считать, что это герой… потому что до завтра он не доживет.
Иоганн схватил лекаря за руку и из последних сил прохрипел:
— Я хочу умереть прямо сейчас! Мне больно! Помогите мне умереть!
Доктор взял его ладонь в обе руки и стал успокаивать:
— Не возбуждайтесь так, поберегите силы. Это ничего вам не даст. Могу вам поклясться, вы умрете очень скоро.
— Я больше не хочу приходить в себя. Послушайте, скажите генералу, что я больше не желаю воевать. Скажите Бонапарту, что я уже умер!
Хирург вытер пот со лба Иоганна, поднял голову и взглянул на офицера, который по-прежнему стоял рядом. Казалось, он о чем-то молит Бонапарта взглядом.
— Мой генерал, прошу вас, скажите что-нибудь этому человеку.
Генерал безразлично глянул на раненого и бросил:
— Отваги! Не падать духом! Нам не страшны ни смерть, ни враги!
Но Иоганн уже потерял сознание. Он так и не услышал, что изрек Бонапарт.
10
Иоганну Карельски не дано было стать героем. Он выжил.
На следующий день к нему вернулось сознание, а еще через день жизнь его была вне опасности.
Сражаться он был не способен и потому пребывал в арьергарде с другими ранеными. Несколько долгих месяцев он выздоравливал, потихоньку набирался сил. Несколько долгих месяцев единственным его занятием было ждать, когда заживет рана, хотя в душе у него полностью она так никогда и не зарубцевалась.
Итальянская кампания шла более чем успешно. Сражения следовали одно за другим, и неприятель нес тяжелые потери. Армия непрерывно продвигалась вперед. Каждый день в лазарет поступало множество новых раненых. Издалека доносились крики гренадеров.
Иногда по вечерам Иоганн брал скрипку и играл для своих товарищей. Главным образом для раненых и умирающих. Несколько раз приходил священник со святыми дарами, желая облегчить умирающим отход в иной мир. И музыка пусть чуть-чуть, но смягчала печаль этих мгновений.
А потом Иоганн решил ходить вместе с санитарами на поле боя. И, стоя на вершине холма, он при свете луны играл для раненых, но в глубине души лелеял надежду, что и мертвые тоже слышат его.
Когда же рана закрылась, зарубцевалась, он возвратился в свой полк. Возвратился в мир живых, в мир крепких, здоровых людей, которые, казалось, были отлиты из стали, людей, ставших бесчувственными от ужасов войны.
В палатке в первый же вечер Иоганн взял скрипку и заиграл. Однополчане бросали на него испепеляющие взгляды. Для них война звучала совершенно иначе, и в их сердцах, привычных к канонаде, к ярости сражений, не осталось места для доброты.
— Кончай! — бросил Иоганну один из них. — От твоей музыки впору завыть. Сыграй-ка нам лучше сигнал атаки.
Смычок замер в воздухе, затем опустился на струны, заглушив их звучание. Без единого слова Карельски улегся на походную кровать.
Проснувшись утром, он увидел возле кровати сломанную скрипку. Карельски так никогда и не узнал, кто это сделал.
Он никого не расспрашивал и даже не пытался найти совершившего это злодеяние.
Иоганн знал, что в конце концов война уничтожит и его самого, как она уничтожила его скрипку.
11
16 мая 1797 года, когда французская армия вошла в Венецию, ощущение было, будто она поражена молчанием. Грабежи, вопли и людская ярость кристаллизовались под воздействием красоты и недвижности этого дивного города. Но более всего Иоганна потряс покой, каким дышала любая улочка, мир и спокойствие, которых он не знал уже много месяцев.
Светлейшая республика[2] одиннадцать столетий противостояла вторжениям варваров и благодаря могучему флоту распространила свое влияние даже на Ближний Восток. Но внезапно она оказалась стертой с карты Европы. И теперь вооруженные чужестранцы полагали себя ее владыками.
— Венеция, — сказал Карельски старшему лекарю, — это не город. Это сон, возникший на берегу моря.
Впервые после ранения война подарила ему чуточку радости. Радости вступить победителем в город своих снов.
Столько чудес, пришедших из глубины веков, столько золота, столько шедевров, явленных взорам этих грязных, вонючих, изнемогающих от усталости людей, поистине могли родиться только в сновидении.
Вслушавшись в тишину города, Иоганн воскликнул:
— Вот она, великолепная Венеция, которую я ждал!
На самом деле он ошибался. Но не знал про то. Да, Венеция — это был величественный корабль. Но только корабль этот во многих местах давал течь.
Венеция прекрасна. Она изобилует золотом, драгоценностями, картинами, дворцами, тишиной и водой. В течение нескольких дней французская армия реквизировала золото, драгоценности и картины. Она заняла дворцы, нарушила тишину. А затем продолжила свой поход на еще не завоеванную Европу. Бонапарт, целью которого была Вена, не хотел, чтобы армия задерживалась в Венеции. Он прекрасно помнил, чего стоило Ганнибалу пребывание его войска в Капуе.
Армия свернула лагерь и покинула окрестности города. Но несколько частей были оставлены в городе гарнизоном. Раненный в сражении Иоганн Карельский был приписан к одной из них.
Ему предстояло пробыть полгода в самом молчаливом городе мира. В идеальном месте, чтобы вернуться к музыке. В городе, словно созданном для того, чтобы писать в нем оперу.
12
Квартировать ему назначили у старика, владевшего большим домом на улице Моисея неподалеку от площади Святого Марка.
Когда он явился туда с выданным в комендатуре билетом на постой, то понял, что война затронула отнюдь не всех.
— Иоганн Карельски. Рад, сударь, познакомиться с вами.
— Эразм. Чему, сударь, могу быть полезен?
— Я — француз. Мне назначили квартировать у вас на все время, что я пробуду в Венеции.
Старик не произнес ни слова в ответ. Он стоял, словно остолбенев.
— Мне бы не хотелось, сударь, чтобы мое вторжение доставило вам неприятности, — сказал Иоганн. — Я постараюсь быть как можно незаметнее и не причинять вам беспокойства.
При этих словах чуть заметная улыбка тронула губы Эразма, но этого оказалось достаточно, чтобы в сердце Иоганна шевельнулась радость.
— Благодарю вас, сударь, за вашу предупредительность, но просто я уже слишком стар, чтобы интересоваться этой войной. Мне довелось слышать разговоры про Бонапарта, и если Венеция теперь принадлежит французам, что ж, мне ничего не остается, кроме как смириться с этим.
Старик изъяснялся на хорошем французском. Он посторонился и пригласил Иоганна войти. Карельски кивком поблагодарил его и улыбнулся:
— Где вы научились так замечательно говорить на нашем языке?
— В Париже. Но это было давно.
— Не сочтите за нескромность с моей стороны, но что вы делали в Париже?
— Делал скрипки. Я — скрипичный мастер.
Иоганн с изумлением взглянул на Эразма:
— Вы сказали, скрипичный мастер?
— Да. Вам это кажется странным или смешным?
— Нет, нет, ни в коем случае. Просто я подумал, что наша встреча произошла не без участия богов.
На том плоту тишины, какой являет собой Венеция и который с каждым днем все глубже погружается в море, без счета музыкальных душ.
И первой в их ряду была душа Иоганна Карельского.
Второй — душа Эразма.
Третьей же была душа войны.
Но о музыке, что мила ей, Иоганн и Эразм никогда не говорили.
Каждое утро Иоганн с огромным сожалением уходил из дома скрипичного мастера и отправлялся в штаб гарнизона. Там он изнывал от скуки. В сущности, делать ему было нечего. Несколько раз ему поручали заполнять какие-то формуляры, но это было еще тоскливей, чем безделье.
Четвертого июня, в Троицын день, на площади Святого Марка был устроен пышный праздник, в котором участвовали и французские и итальянские офицеры. Штандарты Венеции были заменены трехцветными флагами Французской республики. А в завершение торжества были преданы сожжению «Золотая книга»[3] и знаки власти дожа.
В театре «Ла Фениче»[4] дали великолепный оперный спектакль. То была выставка роскоши и богатства. Куда ни глянь — шелка, парча, кружева. Венеция хотела чувствовать себя счастливой под властью нового господина.