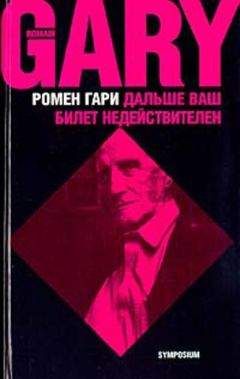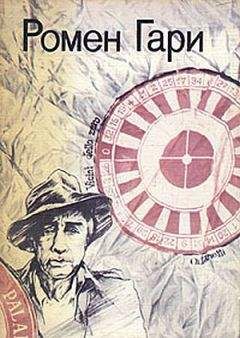Я услышал у себя за спиной треск кастаньет: кубики льда в шейкере бармена.
— … Сохранить — для меня в этом все. Это одно из ключевых слов цивилизации. Не дать разбазарить. Никогда не уступать ни пяди… Но пока ничего не сделано. Я еще помню первые проекты, те пресловутые цементные инъекции в почву, которые должны были якобы помешать городу тонуть. Вздор! Очень скоро обнаружилось, что, наоборот, подобные «инъекции» потопят еще быстрее… А потом появилась идея удержать эту рухлядь на плаву с помощью воздушных кессонов… Не выдержало проверки. И вот теперь, когда научно разработано то, что следует делать, сама Италия разваливается на куски и невозможно предпринять что бы то ни было…
Он сделал знак бармену, требуя второй мартини. Затем его взгляд предпринял странное исследование моего лица, словно он нарочно явился сюда для того, чтобы удостовериться, на месте ли мой нос.
— Мы ведь с вами ровесники, кажется?
— Мне пятьдесят девять.
— Мне тоже.
Я старался сохранять невозмутимость, безразличие, но, разумеется, не смог скрыть своего удивления.
— Похоже, вас это удивляет?
— Вовсе нет. С чего бы, по-вашему, мне удивляться?
— Не знаю. Но сделали такое лицо…
Мне все не удавалось привыкнуть к тому, как он говорил по-французски — без ошибок и усилий, но с невозможным акцентом.
— Вы выглядите моложе меня, — сказал Дули.
— Возраст не обязательно выставлять напоказ.
— Как это у вас получается?
— Простите?
— Говорят, вы еще неплохо держитесь.
— Много занимаюсь спортом.
— Я говорю о женщинах.
Как только мужчина начинает говорить «женщины», во множественном числе, и в тоне его сквозит этакое мужское сообщничество, свойственное знатокам ходячего мясца, во мне поднимается прямо-таки расистская ненависть. И я всегда испытывал отвращение к этим доверительным приставаниям, которые требуют короткого знакомства с теми же психологическими ополосками.
Я молчал. Рука Дули блуждала по столу. Он опустил глаза и, казалось, забыл обо мне. Свет на его лице посерел.
— Когда женщины все чаще становятся велики, это вам знакомо?
— Совершенно не понимаю, что вы хотите сказать.
— Неужели? Ну так я вам объясню. Для меня бабы стали великоваты годика этак… четыре-пять назад. Первой была восемнадцатилетняя девчонка, но уже чересчур большая внутри. Растяжение влагалища, что-то в этом роде. Я едва чувствовал контакт.
— Кажется, это устраняют с помощью обыкновенной операции.
— Ладно, но затем я повстречал очень красивую девицу двадцати двух лет, датскую фотомодель… Лучшее, что тогда было для готового платья… В общем, у нее тоже обнаружилось это внутреннее отклонение… А потом появилась эта евразийка, вы ее наверняка видели в кино… Та же штука… слишком велика! Отродясь с таким не сталкивался, прямо черная серия какая-то… Я открылся Штайнеру, знаете, тот, что по электронике… Он мужчина нашего возраста, шесть десятков, но тоже еще не утихомирился… Это и есть самое главное, старина: не утихомириваться, не пасовать… В общем, я ему все рассказываю и тут узнаю гнусную правду… — Он невесело усмехнулся. — Знаете, что он мне сказал? «Старина, это не бабы стали велики… Это ты усох».
Морщинистый гигант пристально глядел поверх моего плеча. Я инстинктивно обернулся: ничего, только стена.
— Я потерял за год сантиметра два, и у меня больше не твердеет полностью. Да, старина, такие вот дела. В сорок четвертом я высаживался в Нормандии, на Омаха Бич, под пулеметным огнем, освобождал Париж, а вы были героем Сопротивления, партизаном, полковником в двадцать шесть… и вот теперь у нас не стоит. Вы не находите, что это паскудство?
— Да уж, в самом деле, незачем было и войну выигрывать… — Я ускользнул в иронию: — Может, стоит опять повоевать, чтобы вернуть себе силенок?
— Разумеется, мне еще рано ставить на себе крест. Но знаете, каково это, когда ты в постели с девицей и все не можешь решиться, потому что знаешь, что у тебя толком не отвердел и согнется, и ты не сумеешь пробить себе путь, и в результате у тебя вообще опадает из-за твоих страхов и отчаяния, и ты оказываешься тогда либо с мамашей, которая тебя утешает, целует в лобик и говорит, что, мол, «это пустяки, ты просто устал» или «бедняжечка мой», либо же со стервой, которая еле сдерживает себя, чтобы не расхохотаться, потому что у хваленого Джима Дули больше не стоит, он больше ни на что не годен, он больше никто…
— Прямо падение Римской империи…
Он меня не слушал. Не видел меня. Меня тут не было. Он был один в целом свете. Все могли хоть пропадом пропадать: у него больше не стоял. Глаза, где паника и огромная злоба застыли в каком-то стеклянистом блеске.
— Вы целиком отданы на их милость. Еще на кого нарветесь. Если стерва, дело дрянь. Растреплет повсюду. Знаете, Джим Дули спекся. Больше не может. Ни на что не годен… Открытие Америки, да и только. К счастью, всегда находятся такие, которые считают, будто это по их вине, будто это они недостаточно привлекательны. К тому же престиж не последнее дело, они боятся меня потерять, так что делают мне рекламу… Дескать, в свои шестьдесят он все еще великолепен… Просто неутомим…
Он умолк, давая мне время тоже в чем-нибудь признаться… Я приложил побольше стараний, чтобы раскурить сигарету.
— Вы же знаете, чем больше думаешь, встанет или нет, тем меньше встает… еще один триумф психологии. А чем больше изводишь себя, тем больше трахаешься, чтобы себя успокоить… пытаешься, во всяком случае. В итоге делаешь это далее не потому, что хочешь, а чтобы себя успокоить. Чтобы доказать себе, что ты все еще здесь. Когда удается, говоришь себе: уф! это еще не конец, я еще мужчина. И знаете что? Раньше я глядел на какую-нибудь бабенку, чтобы понять, нравится ли она мне; теперь я на нее смотрю и задаюсь вопросом: а вдруг она не клиторичка? Вдруг вагиналка? Заранее ведь не узнаешь, надо проверять…
Я спросил:
— А вы уже пробовали любить кого-нибудь?
В первый раз на его лице появился проблеск юмора.
— Чем? Ведь все сводится к этому, старина. Чем? Знаете анекдот про одного парня на призывной комиссии? Врач ему приказывает: «Покажите ваши генитальные органы», а тот разевает рот, высовывает язык и говорит: «А-а-а-а-а…». Это совершенное паскудство, что с нами делают, старина. Рухнуть сразу — бах! — как дуб, пораженный молнией, — согласен. Лучшего и не надо. Но когда вы в постели с красивой девицей, и… ничего. Как-то раз лежал я вот так на спине, после схватки, дело не заладилось, а бабенка одевалась да на меня поглядывала, рожа у меня была довольно забавная, вроде как на похоронах. Она загасила сигарету, а потом заявляет: «Вы из тех мужчин, которые не могут смириться с потерей мужской силы, потому что не привыкли терять…»
Я заметил равнодушно, как всегда, когда говорю о себе самом:
— Похоже на то.
— Напоролся на шлюху из левых, а эти, старина, не трахаются, эти делают наблюдения. Досадно, что для отказа я еще не дозрел. Не в моем духе. Я так легко не сдаюсь. Дерусь до последнего. Всегда был бойцом.
— Чемпионом.
— Если угодно… А кстати, вспомнил, где мы с вами в последний раз встречались. На чемпионате Европы по бобслею.
— Ошибаетесь. В последний раз мы виделись у Тьебона… с его бильбоке.
Он повернулся к окну, и свет углубил его морщины словно невидимым резцом. Эти черты, тонкие и вместе с тем затертые временем, и кудри кольцами, как на римских медалях и бюстах, обнаружили неожиданную связь с портретами цезарей: ни одно античное произведение не сохранило для нас образа безнадежности.
Однако я хотел знать.
— Почему я?
— Потому что я вас почти не знаю, а так всегда легче… И к тому же мы воевали вместе… и победили. Это сближает. — Он строго взглянул на меня. — А у вас это как происходит? Только басен мне не рассказывайте, старина. Мы ведь в одном возрасте…
Меня уже давно подмывало встать и выйти из-за стола, но я обладаю очень развитым инстинктом самосохранения. Теперь я был уверен, что Дули в курсе и заема, и зачета, которых я просил у его банка. Потому-то он меня и использовал — как боксерскую грушу. Я ведь не мог дать сдачи.
Я пожал плечами:
— Не разбудили же вы меня в семь утра только для того, чтобы обменяться информацией о состоянии наших соответствующих желез…
— Говорят, вы все еще большой бабник… Так что я подумал, неплохо бы с ним потолковать… как двоим бывшим… Спрошу, как это у него получается. Похоже, ваша бразильяночка само очарование…
Я встал:
— Послушайте, Дули, хватит об этом. Вы пьяны. Надо бы вам лечь и поспать. Немножко забытья вам не помешает.
Он поставил свой бокал:
— Сядьте. Вы мне большую свечку должны. Банк дает вам кредит, как вы просили. И делает зачет. Они думают, что с вами все кончено. Я тоже так думаю. Хотя нет: я знаю. И вы тоже. Но прикидываетесь. А может, и не знаете. Или не хотите знать.