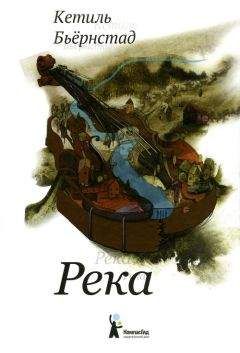Лишь когда скорая помощь из Арендала приходит, чтобы забрать спасенных, Марианне поднимает на меня глаза. Волосы у нее еще мокрые. В лице ни кровинки, в глазах — отчаяние, совсем как на похоронах Ани в начале лета.
— Не думала, что мы так скоро снова встретимся, — тихо говорит она мне.
Я не знаю, что ей ответить. Мне неловко. Мы с ней пережили уже слишком много страшного.
— Это твой близкий друг? — вдруг слышу я свой вопрос, хотя мне не хотелось проявлять любопытства.
Она беспомощно смотрит на меня. Ответить она не в силах.
И их увозят, закутанных в пледы, им помогают сесть в машину, словно тяжелобольным. Но они выжившие. Их должны осмотреть врачи. Потом явится полиция со своими вопросами. Ребекка стоит рядом со мной и шепчет мне на ухо:
— Надо же, чтобы это оказалась Анина мать! Чтобы ей пришлось пережить еще и такое.
Вечером снова наступает штиль. Словно ничего не случилось. Осталась только легкая зыбь. За «Бесстрашной» пришел буксир. В море полно небольших лодок. Это любопытные, уже прослышавшие о несчастье. Мы с Ребеккой сидим на террасе, я обнимаю ее — она сама этого захотела.
— Помнишь, ты рассказывал мне о доме Скууга? Тебе вдруг показалось, что это место преступления? Теперь и у нас тоже место преступления. Хотя я была здесь так счастлива! В детстве я проводила здесь каждое лето! И вот за один час я все это потеряла. Мне вдруг стало ясно, что быть взрослой не так-то просто.
Она безуспешно пытается улыбнуться.
— Почему он должен был умереть?
Я не мешаю ей говорить. Она дольше, чем я, жила в мире неведения. Дольше, чем я, наслаждалась свободой, возможностями, наличием выбора. Но то, что случилось сегодня, не было выбором. Она взволнована тем, что оказалась связанной с этой трагедией как свидетель, и, может быть, еще больше ее волнует то, что это выпало и на мою долю.
— Мы теперь всегда будем думать об этом? — с детской наивностью спрашивает она. — Снова и снова будем вспоминать, как перевернулась эта яхта? Ты каждую ночь перед сном видишь, как твою мать уносит водопад?
Я задумываюсь.
— Нет, теперь уже не вижу. Но я по-прежнему чувствую ее близость. Так же как Анину. Мертвые живут с нами, хотим мы этого или нет. Иногда я думаю, что это они решают, долго ли они, мертвые, будут оставаться с нами, живыми.
— Странные у тебя мысли, Аксель.
— Но тебя это так близко не коснется. Ведь ты даже не знала того, кто утонул.
— Да, не знала, но я никогда не забуду, как висели его плечи, когда его поднимали в вертолет.
— Ты очень боишься смерти?
— Да.
Становится холодно. Мы идем в дом и зажигаем роскошную медную печку, но газовое пламя нас не греет. Я думаю о том, какая музыка подошла бы к такому вечеру, как сегодня, и понимаю, что такой музыки нет. Когда погибла мама, у меня в голове звучала Четвертая симфония Брамса, но это потому, что именно ее передавали в утреннем концерте в то воскресенье, и потому, что мама напевала ее. Когда маму унес водопад, я помнил, как она напевала эту симфонию. А когда мне сказали, что Аня умерла, у меня в голове звучал квинтет до мажор Шуберта, но это из-за Ани — она говорила о нем перед смертью, потому что очень его любила. Однако для того, что случилось сегодня, для этой трагедии, которую можно назвать бессмысленной и которая была лишь естественным следствием мужской самоуверенности рулевого, музыки не существует. Музыки, которая всегда охраняет нас и подсказывает нам выход, сейчас нет. Я делюсь своими мыслями с Ребеккой. Она слушает меня вполуха, кивает.
— И все-таки поставь какую-нибудь музыку, — просит она.
Ребекка вдруг кажется мне маленькой и испуганной, она сидит на тахте, поджав под себя ноги и обхватив плечи руками, ведь ее жених не может сейчас обнять ее. Даже смешно, но в эту минуту она похожа на паука, который, чувствуя опасность, пытается сжаться в комок. Она как будто читает мои мысли в то время, как я ищу, что выбрать из огромного собрания пластинок, которое семейство Фрост держит даже на даче.
— Как думаешь, погибший был любовником Аниной мамы? — вдруг спрашивает она.
— Нет, — быстро отвечаю я, чтобы помешать этой мысли укрепиться у меня в голове. — Подумай только, что ей пришлось пережить в последнее время. Муж застрелился. Дочь умерла от истощения. За несколько недель она потеряла все.
— Но не забывай одну важную вещь, Аксель, — говорит Ребекка со свойственной ей рассудительностью. — В скорби всегда присутствует доля чувственности.
— Ты так думаешь?
— Да. Вспомни, скольких людей свела вместе скорбь. Скорбь глубоко проникает в нас. Это когда-то сказал мой папа. Она словно отворяет человека. А что случается, когда человек уязвим? Он становится восприимчивым. Жаждет утешения. Ищет, даже не сознавая этого. Ты не веришь?
Я стою перед пластинками и смотрю на портрет Дину Липатти. Молодое лицо. Наверное, он сфотографирован незадолго до того, как умер от рака. Теперь я знаю, какая музыка нам сегодня подходит. «Иисус, упование мое», транскрипция Майры Хесс хорала Баха из кантаты 147. Знаменитая запись пятидесятых годов. Я ставлю пластинку. Непостижимым образом плохой звук только усиливает впечатление. Усиливает благодаря сверхчувствительной манере исполнения Дину Липатти. Благодаря приглушенному до минимума звуку, словно пианист уже умер. Музыка призраков славит жизнь.
Ищет, не сознавая этого? Слова Ребекки звучат у меня в голове, пока я пытаюсь угадать, знал ли Дину Липатти, когда исполнял это произведение, что он неизлечимо болен и должен умереть молодым. Независимо ни от чего, он играет уже мертвый. Он все еще играет для нас. Переселение душ с помощью технологии. Великие чудеса, которым мы уже не удивляемся. Я смотрю на иглу, скользящую по виниловой дорожке. Черные круги, которые я вижу, — это оттиск человеческой жизни. Если долгоиграющая пластинка звучит сорок минут, думаю я, значит, в этот узор впечатаны сорок минут жизни Дину Липатти. Много лет спустя после его смерти я стою на даче в Сёрланде, на севере Европы, и слушаю, кем был Дину Липатти, кем он хотел быть именно в эти минуты. Я не могу прочесть его мысли, но я не мог бы прочитать их, даже если бы он был жив. И все-таки логично, с удивлением думаю я, неподвижно слушая звуки фортепиано, что мысли тоже могут трансформироваться. Если бы на утонувшем сегодня человеке, которого при рождении назвали Эриком, было записывающее устройство, мы знали бы, что чувствовал в последнюю минуту этот Эрик, тот, которому было суждено умереть летним днем в Килсунде, когда на небе сверкало солнце и никому не приходило в голову ничего страшного…
Дину Липатти играет так, как будто он жив.
— От этой музыки мне стало еще более грустно и жутко, — жалуется Ребекка.
— Прости, — говорю я.
Мы ложимся поздно. Ребекка выпила слишком много вина. Она говорит, что ей будет страшно рассказать родителям о том, что случилось. Дезире и Фабиан Фрост будут отсутствовать еще несколько дней. Боится она рассказать о трагедии и своему жениху Кристиану, потому, что, по ее словам, он слишком чувствительный, а еще потому, что он очень любит дачу Фростов — единственное место, где он способен отвлечься от своих занятий и быть только счастливым.
Сам я даже не успеваю подумать о том, что я чувствую. Ребекка весь вечер требует моего внимания. Она, которая всегда подчеркивала важность счастья, сейчас настроена весьма мрачно. Наверное, она права. Наверное, и правда скорбь отворяет человека. Наверное, человек восприимчив. Мы стоим в маленьком коридорчике перед нашими спальнями. Она держит меня за руку.
— Сегодня я не могу спать одна, — говорит она.
Я мысленно вижу ее спальню: в ней уже стоит двуспальная кровать, готовая к будущим супружеским играм с чувствительным Кристианом, с которым она обручилась в Иванову ночь. Был устроен большой праздник, на свежем воздухе под яблоневыми деревьями Хиндар-квартет[2] исполнял Шуберта, песни о любви Эдварда Грига исполняла сама Ингрид Бьёнер. Окна ловили утренний свет, занимавшийся на востоке. Отец Ребекки всегда предпочитал находиться на переднем крае событий.
— Я могу спать у тебя на полу, — предлагаю я, чувствуя себя обязанным это сказать.
— Правда? — с облегчением вздыхает она и быстро меня обнимает. — Тогда тебе нужен матрац.
— Не нужен мне никакой матрац, — говорю я, сам не понимая почему. У меня болят плечи после того, как я вытащил из воды четырех человек. Крестец покалывает, словно иголками.
— Ляжешь прямо на пол? — с недоверием спрашивает Ребекка.
— Разве у тебя в спальне нет ковра? — говорю я, мне хочется ее рассмешить.
— Нет, — говорит она. — У меня дубовый паркет. Но поступай, как знаешь. Я просто предложила. Можешь взять купальную простыню.