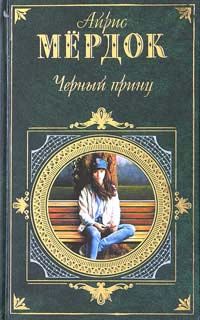Стены будуара были увешаны фотографиями и картинами. Последние принадлежали кисти самой Харриет (когда-то она мнила себя художницей): бледные расплывчатые акварели и несколько картин, написанных маслом, — из-за обилия световых бликов, нанесенных старательной ученической кистью, казалось, что краска на них местами осыпалась от времени. Фотографии были семейные: венчание родителей, венчание самой Харриет, Дейвид маленький, Дейвид постарше, еще старше; Блейз совсем еще молодой — стройнее, тоньше и как-то резче сегодняшнего; отец в военной форме; брат, тоже в форме; мать, увядающая красавица, для которой «славы победное шествие» обернулось чередой нескончаемых странствий и обманутых надежд. Харриет родилась в Индии, когда ее отец служил в Деолали — преподавал артиллерийское дело в артиллерийской школе. Мать Харриет попала в Индию случайно, приехала в гости к дальнему родственнику-дипломату, чтобы провести в Дели один сезон, да так и осталась. Здесь, на одном из балов, состоялось ее романтическое знакомство с будущим супругом, капитаном Даруэнтом. В день бракосочетания за их свадебным кортежем шествовал слон под узорным чепраком. (Фотография слона была тут же на стене.) Вскоре после этого будущий отец Харриет был откомандирован в Англию, потом началась война. Капитан (уже майор) Даруэнт служил артиллерийским инструктором в Каттерике, потом командовал противовоздушной батареей в Уэльсе. Позже его перевели в Вулидж, еще позже в Германию, но выше майора он так и не поднялся. Мать Харриет следовала за мужем из гарнизона в гарнизон, с одной меблированной квартиры на другую. (Лишь под конец ее терпение иссякло, в Германию она уже не поехала.) Был, правда, домик в горах, в Уэльсе, где детям так нравилось. Было вечное безденежье и никакой романтики. Слон с узорным чепраком остался в далеком прошлом. Овдовев, миссис Даруэнт осела в Ирландии, и в последние годы Харриет с ней почти не виделась. Мысль о матери отозвалась в сердце Харриет привычной нежностью, и из памяти тут же выплыли картинки деревенской жизни: корзина с ежевикой, терн, собранный для настойки, золотистое айвовое желе, сухой вереск под копытами маленьких пони, запах жимолости, запах влажного сена, ванильный вкус желтовато-коричневых яблок. Эти воспоминания — такие яркие и в то же время расплывчатые — были очень дороги Харриет. Во всякую свободную минуту нужно думать о людях с любовью, считала она. Особенно о мертвых, поскольку они бестелесны и более живых нуждаются в нашем участии.
Харриет обернулась к голландскому зеркалу в инкрустированной раме (Блейз подарил на Рождество) и слегка поправила прическу. Ее длинные чуть отливающие золотом каштановые волосы были скручены узлом на затылке. Перед зеркалом круглое спокойное лицо Харриет сделалось еще спокойнее. На ней было длинное — «викторианское», как говорил Блейз, — вуалевое платье в мелкую крапинку. Харриет всегда старалась одеваться по возрасту. Некоторые из ее подруг давно располнели, но, кажется, по-прежнему воображали себя стройными и молоденькими. Харриет села за стол и вскоре почувствовала, как ею овладевает привычная праздная грусть. В такие минуты она казалась сама себе бездумной, безвольной и безмерной — как огромная мягкотелая тварь, недвижно висящая в толще морской воды, или даже как целый необитаемый континент. На самом деле эта бесформенная огромность была формой ее счастья. Такая форма — или матрица, хотя Харриет не пришло бы в голову обозначить ее подобным словом, — есть у каждого из нас. Эту форму наше сознание принимает в состоянии ленивой расслабленности; она может показаться кому-то неприглядной или даже уродливой, — но именно она составляет суть нашего счастья. Харриет была счастлива, и ее дом был счастлив вместе с ней, прогретый ее немного сумбурным, но все же ровным и спокойным теплом.
Конечно, и у нее на душе порой бывало неспокойно — чаще всего из-за Дейвида; или иногда становилось жаль своего маленького загубленного таланта. Но она любила, она была любима, совесть ее была чиста — и этого, при ее характере, было довольно для счастья, для того чтобы ее отношения с текущим временем оставались неспешными и доверительными. Счастье ее выглядело порой грустноватым, но всегда улыбалось. Она любила своего мужа, сына, любила брата и умела смотреть на все жизненные невзгоды сквозь призму этой любви, отчего невзгоды рассеивались. Иногда она ощущала себя совсем маленькой и ничтожной — «сошкой-мошкой» — и страшно жалела, что не стала в жизни великой художницей или не важно кем, но великой. В свое время она училась в художественной школе и вынашивала честолюбивые замыслы. Но раннее замужество, вкупе с тем обстоятельством, что Блейз никогда не воспринимал ее призвание всерьез, заставило ее в конце концов забросить кисть. Она была не как все, не похожа на всех, но эта ее непохожесть оказалась настолько частью ее самой, что иногда она ощущала себя бессовестной эгоисткой. Ей не нужно было преодолевать ни себя, ни обстоятельства, милосердие давалось ей легко и естественно, вознаграждалось щедро. Я жуткая эгоистка, говорила она себе, потому я и не стану великой. Что-что, а величие мне не грозит.
Сейчас, впрочем, она размышляла не о себе, а о сыне. Наверное, через это должна пройти каждая мать, думала она. Восхитительная близость не может длиться вечно. Дейвид отдалился сначала от Блейза, а теперь и от нее. Блейз говорит, что это естественно, так и должно быть. Самое ужасное, что к нему стало вдруг нельзя прикасаться; и Харриет, для которой прикосновения всегда были важной частью жизни, пребывала теперь в тревоге и растерянности. Дейвид начал уже мерещиться ей, — казалось, вот он, протяни руку и потрогай, — но нет; ее бросало то в жар, то в холод, и все это очень походило на муки неразделенной любви. Да, все приметы влюбленности налицо. Хочется расцеловать его, обнять, как раньше, осторожно распутать золотые пряди, такие длинные, просто кошмар, — но нельзя, невозможно! А в этом году он, как нарочно, возмужал, превратился в настоящего красавца, и Харриет стало еще хуже. Его загадочная «античная», как выражался Блейз, улыбка наполнилась для нее тайным, чуть ли не эротическим смыслом. Он стал теперь высокий, суровый — просто неприступный ангел, хотя внутри наверняка все тот же славный и смешной малыш. Появились какие-то новые привычки, которых она не понимает, вообще ужасно много такого, о чем она ничего не знает, и узнать невозможно. Например, раскладывает ли он до сих пор на тумбочке свой перочинный ножик, компас и прочие сокровища, прежде чем выключить на ночь свет? Когда-то мысль о том, что Дейвид молится перед сном за них с Блейзом, была для нее радостью и утешением: увы, собственная ее вера с годами явно ослабевала. Молится ли сейчас? Спросить? Но об этом не могло быть и речи. Харриет знала, что некоторые матери флиртуют со своими взрослеющими сыновьями. Для нее это было абсолютно исключено. В своем новом качестве Дейвид, кажется, обладал новой властью — он умел налагать вето, и Харриет прекрасно сознавала, что она может и чего не может. Нет, так нельзя, подумала она, надо взять себя в руки. Это как конец романа, когда надо прощаться и рвать все нити, одну за другой. Неужели и ей придется все рвать? Нет, нет, просто Дейвид вырос, это естественно, а совсем не конец.
Ее любовь никогда не закончится и никогда не потускнеет. Одно плохо: она пока не совсем понимала, как, какой новой любовью нужно теперь любить сына, чтобы ей не пришлось потом что-то вечно от него скрывать, а ему что-то вечно подозревать и о чем-то догадываться. Харриет в тоске уронила лицо на руки. Кто это сказал, что «для женщины вся жизнь — любовь»? Как это верно для нее и как страшно.
* * *
Блейз Гавендер поужинал с удовольствием. Он любил поесть. Ели спаржу, она так приятно попахивала мочой. За домом Харриет, конечно, смотреть не умеет, но готовит вполне пристойно. Садясь за стол, он, помнится, был не в духе: перед этим приходил человек снимать показания электросчетчика, и Блейз имел с ним весьма неприятный разговор. Наверное, человек держался недостаточно почтительно, и Блейза вдруг понесло, он взялся разыгрывать перед ним деревенского сквайра. Спрашивается, зачем? Добро бы по молодости лет, но теперь все это как будто уже ни к чему. Во всяком случае, Блейз постарался переварить неприятный инцидент вместе со спаржей. Возможно, он просто привык воспринимать всех приходящих в дом как «пациентов» и по инерции стремился сразу же поставить на место. Сейчас он был занят реставрацией японской вазы Харриет. Неторопливо склеивая разложенные на столе осколки, он скреплял их изнутри скотчем и одновременно пытался мысленно сосредоточиться на своей работе с пациентами. Надо сказать, что в целом и то и другое у него получалось. Увы, иногда он ненавидел своих пациентов. Скверно, думал он, мои методы лечения имеют смысл только тогда, когда отношения с пациентами строятся на любви. Что, конечно, тоже чревато осложнениями. Монти как-то обронил в разговоре, что любопытство без любви к человеку или к науке всегда вредоносно. Он, правда, говорил о писателе и его героях, но Блейз тут же перенес высказывание на свою работу, и оно показалось ему как нельзя более точным. Да, ему нравится его работа, но что ему в ней нравится? Для себя, правда, Блейз давно уже решил, что и почему, однако проблем это не снимало. И дело было вовсе не в том, что он не умел лечить пациентов. Умел и лечил.