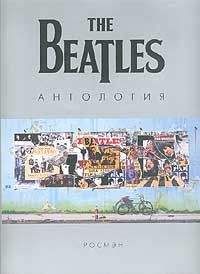Ознакомительная версия.
— Гол и пас.
— С Кавиллери?
— Не ваше дело, — отрезал я.
— Кто такая? — полюбопытствовал один из бегемотов.
— Дженни Кавиллери, — объяснил Рэй. — Тощая такая, с музыкального.
— А, знаю, — сказал третий. — Лакомая жопка!
Игнорируя этих грубых и похотливых говнюков, я распутал телефонный шнур и понес аппарат к себе в спальню.
— Она играет на рояле в Баховском обществе, — сообщил Стрэттон.
— А во что она играет с Барреттом?
— Наверное, в ну-ка отними.
Ржанье, хрюканье, гогот. Я же говорю — скоты.
— Джентльмены! — заявил я на пороге. — В жопу вас всех.
Захлопнув дверь перед новой волной скотских воплей, я разулся, улегся на кровать и набрал номер Дженни. Мы разговаривали шепотом.
— Дженни!
— Да?
— Как ты прореагируешь, если я тебе скажу…
Я заколебался. Она ждала.
— Мне кажется… что я в тебя влюбился.
Снова молчание. Потом она ответила очень тихо:
— Говнюк ты, вот что я тебе скажу.
И повесила трубку.
Я не расстроился. И не удивился.
Меня ранили в игре с Корнелльским университетом.
Сам виноват. Во время острого момента я совершил роковую ошибку, обозвав их центрального нападающего «ебаным канадцем». Забыв, что в их команде четверо канадцев. Все патриоты, здоровые и с хорошим слухом. Так меня еще и удалили. И не на две минуты, а на пять — за драку. Слышали бы вы, как на это реагировали корнелльские болельщики, когда об этом объявили по стадиону. Из наших мало кто притащился в такую дыру. Тут в Итаке, штат Нью-Йорк, наших болельщиков было мало, хоть это и был решающий матч. Пять минут! Усаживаясь на скамейку штрафников, я видел, как рвет на себе волосы наш тренер.
Джеки Фелт примчался ко мне. Тут только я и обнаружил, что вся правая половина лица у меня превратилась в кровавое месиво. «Господи, — причитал он, пытаясь остановить кровь. — Господи, Оливер!»
Я сидел тихо, отрешенно глядя перед собой. Было стыдно смотреть на площадку — нам забросили шайбу. Счет стал равным. Более того, они вполне могли выиграть матч — а с ним и первенство. Черт возьми! Мне еще сидеть больше двух минут!
На противоположной трибуне, где сидели немногочисленные; гарвардцы, царило мрачное молчание. Обо мне забыли уже и свои, и чужие болельщики. Только один зритель по-прежнему не отрывал глаз от скамейки штрафников. Да, он был здесь. «Если совещание завершится вовремя, постараюсь приехать». Среди гарвардских болельщиков сидел — но, разумеется, не болел — Оливер Барретт III.
Молча и без эмоций наблюдал он за тем, как заклеивают пластырем последнюю кровоточащую ссадину на лице его единственного сына. О чем он думал в эту минуту?
«Оливер, если тебе так нравится драться, может, займешься боксом?»
«В Эксетере нет боксерской команды, отец».
«Наверное, мне не надо ходить на твои игры».
«Ты думаешь, я дерусь ради твоего удовольствия?»
«Я бы не стал употреблять слово „удовольствия“».
Хотя, кто знает, о чем он думает? Ведь Оливер Барретт III — это ходячая, иногда говорящая, гора Рашмор[2].
Может, он предавался сейчас своему обычному самолюбованию. Смотрите на меня! Здесь так мало гарвардских болельщиков, но один из них — я! Я, Оливер Барретт III, чрезвычайно занятой человек, мне надо банком управлять, но я нашел время приехать на этот дурацкий хоккейный матч. Как здорово! (Для кого?)
Толпа опять завопила, на этот раз громче — нам снова забили. С красным от злости лицом Дэйви Джонстон проехал мимо меня, даже не взглянув. Злой, а в глазах, кажется, слезы. Господи, помилуй! Я, конечно, понимаю, решающий матч и все такое, но слезы?!
Мы проиграли 3:6.
Сделанный после матча рентген показал, что сломанных костей нет, и доктор Ричард Зельцер наложил двенадцать швов мне на правую щеку. Джеки Фелт слонялся по кабинету, рассказывая корнелльскому врачу, что я неправильно питаюсь и что всего этого можно было избежать, если бы я принимал соляные пилюли. Доктор Зельцер его проигнорировал, а меня строго предупредил, что я едва не повредил «дно орбиты» (это такой медицинский термин) и что лучше бы мне не играть неделю. Я его поблагодарил, и он ушел, преследуемый по пятам Фелтом, который продолжал разглагольствовать о правильном питании. Наконец я остался один. Не спеша принял душ, стараясь не намочить пораненное лицо. Новокаин переставал действовать, но чувствовать боль было даже приятно. И то — ведь вся эта хуйня из-за меня произошла: и первое место просрали, и вообще дали себя победить, чего давно уже не случалось. Может, в этом не только я был виноват, но в тот момент я винил лишь себя.
В раздевалке никого не было. Наверно, все уже в мотеле. Ясное дело, никто не хочет меня видеть, не желает разговаривать. С отвратительным вкусом горечи во рту, — а мне было так хреново, что она действительно на вкус ощущалась, — я собрал вещички и вышел на улицу. Несколько гарвардских болельщиков всё еще были там, на ледяном ветру в северной части штата Нью-Йорк.
— Как твоя щека, Барретт?
— Ничего, нормально, мистер Дженкс.
— Наверно, бифштекс сейчас хочешь, — произнес другой знакомый голос. Это был Оливер Барретт Третий. Очень похоже на него — вспомнить наше старинное семейное средство от подбитого глаза — приложить кусок сырого мяса.
— Спасибо, отец, — сказал я. — Врач уже обо всем позаботился, — и прикоснулся пальцем к пластырю, под которым скрывались двенадцать наложенных швов.
— Да нет, сынок, я имею в виду, съесть.
За обедом у нас опять состоялся традиционно тупой обмен репликами, начиная с «Как дела, сынок?» и кон чая «Что я могу для тебя сделать?»
— Как дела, сынок?
— Нормально, отец.
— Скула болит?
— Нет. — А ведь болело всё сильнее.
— Давай, Джек Уэллс посмотрит тебя в понедельник.
— Да не надо, отец.
— Но ведь он специалист…
— Так ведь и корнуэлльский врач не ветеринар, перебил я его очередную снобистскую тираду о преимуществе специалистов, экспертов и прочих знатоков.
— Жаль, — сказал Оливер Барретт Третий, — у тебя зверские порезы.
Тут я подумал: может, это он так выражает неодобрение моим действиям на льду. Но сказал другое:
— Ты имеешь в виду, что я вел себя как зверь?
На лице у него появилось довольное выражение, потому что удалось спровоцировать меня на вопрос, но он лишь сказал:
— Это ты заговорил о ветеринарах.
Я решил внимательнее изучить меню.
* * *
К тому времени, когда принесли горячее, он уже начал свою новую дурацкую проповедь. О победах и поражениях. Сказал, что мы потеряли звание чемпионов (какое точное наблюдение, папочка!), но что вообще-то в спорте важнее не выигрывать, а участвовать. Всё это было подозрительно похоже на девиз Олимпийских игр, и, решив, что сейчас он перейдет на рассуждения о преимуществе Олимпиад перед такой ерундой, как первенство университетов, я быстренько его заткнул, повторяя как попка «Да, конечно» и «Точно, именно так».
Тогда он начал следующую свою любимую тему: мои планы.
— Скажи, Оливер, из Юридической школы тебе уже ответили?
— Вообще-то, отец, я еще не точно решил об этой школе.
— Я тебя не о том спрашиваю. Я спросил, что они в школе о тебе решили?
Очень остроумно. Может, мне еще улыбнуться надо?
— Нет, отец, они мне еще не ответили.
— Я мог бы позвонить Прайсу Циммерману.
— Нет! — я не дал ему договорить. — Пожалуйста, не делай этого.
— Не для того, чтобы повлиять, а просто так, поинтересоваться…
— Отец, я хочу, чтобы мне ответили письмом, как и всем остальным. Пожалуйста, не вмешивайся.
— Да. Конечно. Хорошо.
— Спасибо.
— И потом, тебя ведь почти наверняка примут и так, — добавил он.
Не знаю, как это у него получается, но Оливер Барретт Третий умеет унизить меня, даже когда хвалит.
— Совсем и не наверняка, — ответил я. — У них ведь там нет хоккейной команды.
Не знаю, чего это я себя унижал. Может, из чувства противоречия.
— У тебя есть и другие достоинства, — заявил Оливер Барретт Третий, но развивать эту тему не стал. (Да и сомневаюсь, что смог бы.)
Еда в ресторане была не лучше нашего разговора. Хотя я могу предсказать, что булочки будут черствыми, еще до того, как их принесут, но никогда не могу угадать, что захочет обсудить со мной отец.
— Кроме того, всегда можно вступить в Корпус мира, — сказал он ни с того, ни с сего.
— Чего? — Я даже не понял, вопрос это или утверждение.
— По-моему, Корпус мира — отличная вещь. Ты согласен?
— Ну, — ответил я, — во всяком случае лучше, чем Корпус войны.
Теперь мы были квиты. Я не понимал, что он имеет в виду, и наоборот. Значило ли это, что тема исчерпана и теперь мы перейдем к обсуждению других текущих проблем и правительственных программ? Нет. Я на мгновение забыл, что главнейший наш предмет — мои планы.
Ознакомительная версия.