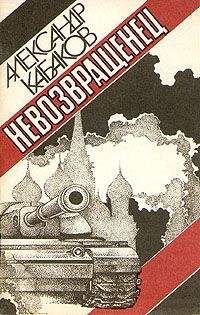— Вот, дверь вы открыли, теперь до нас кинуться, задыхаясь, прошептала женщина. Здесь, на площадке, окно выходило прямо в переулок. В его синем свечении лицо женщины потеряло почти все от фотомодели и стало совсем ведьмачьим. Я отодвинул ее в простенок, перехватил автомат поудобнее и осторожно придвинулся к стеклу.
В переулке я увидел человек восемь. Насколько можно было разобрать, все они были в военном, в десантных бушлатах, в беретах, стоявших лихо торчком, но по разномастной обуви и брюкам было ясно, что это не регулярные части.
— Афган… — севшим от увиденного голосом шепнул я женщине и не расслышал ее ответа — то, что происходило в переулке, оглушило меня, и смотреть я не хотел, и смотрел, не отрываясь.
Поперек переулка лежала перевернутая набок машина — кажется, старенький «Мерседес». Судя по развороченному перед нею асфальту, перевернуло ее взрывом гранаты, который мы слышали. Вокруг этой машины и суетились люди в беретах. Через оказавшуюся открытой сверху дверь они вытаскивали какого-то человека. Похоже было, что человек не особенно пострадал — во всяком случае, он и сам старался вылезти и одновременно вырывался из тащивших его рук… Его вытащили, двое держали его за локти, отведя чуть в сторону. Следом из этой же двери вытащили женщину. Ее тащили, как мертвую, — она висла на руках, складывалась, голова без шапки и платка моталась. Вытащили и ее, посадили, прислонив к багажнику… Тем временем двое, державшие мужчину, вывели его на середину переулка, к ним подошел третий, держа на весу, низко, на вытянутых руках тяжелый пулемет. Двое шагнули в сторону, мгновенно растянув руки мужчины крестом, третий, не поднимая пулемета, упер его ствол в низ живота распятого, ударила короткая очередь. К стене противоположного дома полетели клочья одежды… Женщина сползла вдоль багажника и легла на мостовую, будто устроилась спать — подтянув ноги калачиком.
Через мгновение убийц в переулке уже не было.
— Та шо ж такое, шо ж это такое?! — услышал я и снова обнаружил женщину, глядящую рядом со мной в окно. — Шо ж оно творится в вашей Москве, шоб она уже сгорела!..
— Надо уходить отсюда, — сказал я. — Через пятнадцать минут здесь будет Комиссия, они начнут обыскивать подъезды и чердаки, нам конец…
— Какая еще комиссия, — женщина, плача, упиралась, я тащил ее с лестницы, — какая комиссия, поубивают тут, в той Москве!..
— Комиссия Национальной Безопасности, неужели вы и этого не знаете? — бормотал я на ходу. — Идемте, идемте быстрее!
Мы приоткрыли дверь, но было уже поздно. С двух сторон в переулок въехали машины — полицейский микроавтобус и черная «Волга» c красным мигающим огнем на крыше. Вспыхнули фары, захлопали дверцы, люди в серой полицейской форме и в штатских куртках выскочили и выстроились двумя цепями, перекрыв перекрестки. Я прикрыл дверь. Автомат в моей руке блеснул в проникающем с улицы свете все еще примкнутым штыком…
— Все, — сказал я. — Все, сейчас они пойдут по домам…
Женщина молчала, было слышно только ее дыхание, громкое дыхание потерявшего себя человека.
— Погодите, — я сказал это слишком громко и вздрогнул. — Погодите! А как вы попали сюда? Дверь же была забита…
— Та есть же там сзади другая. — Женщина вспомнила, рванулась, и я, не выпуская ее кожаного рукава, рванулся за ней. Как же я забыл этот черный ход?! Хотя, кажется, раньше он был заперт…
Мы оказались во дворе — собственно, это был даже и не двор, а просто другая улица, но здесь стояли железные помойные ящики, чернел остов давно разбитой машины — это была изнанка некогда шикарного дома, выходящего на Тверскую. Снег не полз под ветром, не змеился — он уже лежал, скопившись невысокими волнами первых сугробов с наветренной стороны помоек и ящиков. У одного из подъездов богатого дома маячила фигура — человек в красной нейлоновой куртке шагал у подъезда взад и вперед, как часовой. Мы прошли близко, я увидел молодое лицо, совершенно седые длинные волосы бесполого существа, услышал бормотание: «Она выйдет — а я тут. Она выйдет — а я тут! Она выйдет — а я…»
Я вспомнил, что в этом подъезде жила некогда знаменитая певица, здесь всегда толпились безумные поклонники. Этот сумасшедший, похоже, бродил здесь с тех самых пор. Может, он и не знал, что кумир его давно уже поет для пассажиров парома, возящего, в основном, футбольных болельщиков между Англией и Данией. Однажды какой-то буйный бритт швырнул в нее банкой из-под пива — он был огорчен проигрышем ливерпульцев. Би-Би-Си передавало об этом с глумливым сочувствием…
Мы уже шли по Садовой. Сзади остались черные руины «Пекина», миновать их удалось, к счастью, без приключений. С тех пор как гостиница рухнула во время артиллерийских боев, развалины были облюбованы подмосковными анархистами. Все лето здесь висела выцветшая тряпка с надписью: «Да здравствуют Люберцы, долой Москву!», а однажды утром я видел, как красная кирпичная пыль, выдуваемая июньским ветром, ложилась на мертвеца, висящего в пустом оконном проеме третьего уцелевшего этажа. Это был парень из московских в своей униформе — черной кожаной куртке. Черная же кожаная фуражка сползла ему на лицо. Он висел на блестящей стальной цепи — так обитатели «Пекина» обозначили свое отвращение к его символу веры, к металлу. Шипы на браслетах, нелепо забинтовавших его вылезшие из рукавов запястья, блестели при свете китайских ресторанных фонариков. Пригородные палачи притащили их откуда-то и повесили в окне по обе стороны казненного. Они даже умудрились их включить, и бледный цветной свет был страшен утром.
— …А у меня мужа убили еще в запрошлом годе, — продолжала женщина свой бесконечный рассказ. — Хороший был мужик, руки на месте, всем нашим с Красного Камня — это ж у нас район такой в городе — машины ремонтировал, а они ж его и убили… Прямо на сервисе и убили, монтировкой вдарили, деньги — сколько тех денег было, может, тысяча старыми еще, «горбатыми», — так они взяли и ушли. Соседи…
Я промолчал. Сколько уже слышал я этих историй — и просто в очередях, и от очевидцев, а вот теперь и от пострадавшей… Мне не жаль было ее умельца мужа, для которого тысяча «горбатых» — как раз столько, сколько мы с женой тратили на весь недельный хлебный паек, — были не деньги. Не жаль было и ее, которая сейчас с сотней, а то и двумя этих тысяч приехала «по обувь» и, вспоминая мужа, тащится со мною ночью на площадь. Мне даже и того парня-металлиста, что висел, поблескивая шипастыми браслетами, было не жалко. Жалко мне почему-то было нелепой гостиницы со шпилем…
Мимо знаменитого дома с нехорошей квартирой, у подворотни которой дежурили пикеты с нарукавными повязками «свиты сатаны» и в кошачьих масках, мимо Патриарших, по периметру которых медленно ехал полицейский патрульный танк, скользя прожекторным лучом по фасадам, окружающим пруд, мимо какого-то посольства, обложенного мешками с песком, над которым возвышались голубые каски китайцев из ооновского батальона, мы вышли на Спиридоновку.
— …И вот я вас хочу спросить, а у вас нема, случайно, конечно, новых талонов? — женщина заглянула мне в глаза сбоку, и снова в синем сиянии луны ее лицо мгновенно проделало путь превращений от рекламы какого-нибудь довоенного шампуня из полузабытой «Бурды» до панночки дьявольской. — А я б у вас покупила б один к ста или как тут в Москве дают? Очень мне обуви надо…
— К сожалению, — я остановился. Только теперь я заметил, что так и тащу на виду автомат с примкнутым штыком. Складывая и убирая «калашникова» под куртку, я повторил: — К сожалению… у меня есть совсем немного… только на сегодня… впрочем… если на площади ничего, за чем я иду, не будет, я могу вам отдать по обычному курсу, один к восьмидесяти… на следующей неделе я должен получить еще немного… так что, если хотите…
— Вот же спасибо! — она сразу забыла все свои давние горести и страхи этой ночи. — Вот же спасибо вам! Так я с вами уж, конечно, до самой площади и пойду. А можем, если хочете, вот и на лавочке тут посидеть… пока ж рано?
Слева от нас маленький сквер возле какого-то дома из старых функционерских. Пустая милицейская будка с выбитыми стеклами темнела на краю сквера. Я взглянул на часы на столбе — было без четверти два. На площади я собирался быть около пяти.
— Что ж… давайте посидим, покурим.
Мы разыскали в темноте полусломанную скамейку, сели, закурили. У нее была, конечно, настоящая «Ява», я свернул свою, от протянутой ею пачки отказался — много лет я уже не принимал никакого угощения. Мы затянулись, я достал транзистор — минут пять можно было себе позволить послушать новости, тем более что к концу месяца батарейки обязательно должна была получить жена через очередную помощь «Иносемьи». Ее парижская родня самим своим существованием давала нам возможность и кормиться по талонам, и получать иногда нормальную одежду, обувь, батарейки — правительство не хотело терять тех, кто мог хотя бы когда-нибудь ввезти в страну и настоящие деньги… Транзистор щелкнул и захрипел.