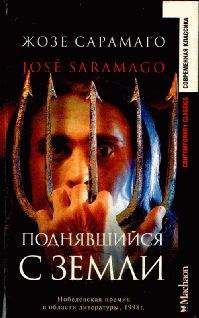Она права, но Домингосу неловко, что жена зовет его — что люди подумают, ведь он мужчина, — и потом, пересекая площадь, он скажет ей: Не вздумай— еще раз так сделать, смотри, я рассержусь. Женщина не отвечает, она укачивает ребенка. Телега медленно, подпрыгивая на ухабах, едет вперед. Осел, похоже, совсем окоченел. Они сворачивают в проулок, где дома чередуются с садами, останавливаются перед низеньким домиком. Этот? спрашивает жена. Этот, отвечает муж.
Большим ключом Домингос Мау-Темпо отпирает дверь. Чтобы не задеть головой притолоку, приходится нагнуться, да-а, хоромы… Окна в доме нет. Слева — низкий очаг. Домингос Мау-Темпо высек огонь, скрутил из соломы жгут, подпалил его и помахал из стороны в сторону, чтобы жена, пока горит этот факел, успела разглядеть новое жилище. В углу, рядом с очагом, свален хворост. Этого пока хватит. Женщина пристроила сына в уголок, собрала дрова и щепу — и через минуту вспыхнуло пламя, отблески его заиграли на выбеленной стене. Дом отныне был обитаем.
Домингос Мау-Темпо, открыв решетчатую калитку, ввел во двор осла с телегой, начал выгружать пожитки, сваливать их как попало в комнату — жена разберет. Тюфяк подмок с одного боку. В сундук с одеждой попа-ил вода, у стола отвалилась ножка. Но на огне уже стояла кастрюлька, а в ней — несколько капустных листьев, пригоршня рису, мальчику снова дали грудь, и он уснул на сухом краешке тюфяка. Домингос вышел в сад по нужде, а жена его Сара да Консейсан, мать Жоана, стояла посреди комнаты, внимательно смотрела в огонь, словно ждала, что вот-вот подтвердится невнятное предчув-ствие. Что-то мягко повернулось у нее в животе. Вот и еще один… Но вошедшему мужу она ничего не сказала. У него и без того хлопот много.
* * *
Домингосу Мау-Темпо не суждено будет состариться. Настанет день — жена к этому времени уже родит ему пятерых, — когда на пустыре возле Монте-Лавре он перекинет веревку через ветку дерева и повесится: не потому, конечно, что у него пятеро детей, это-то случается сплошь и рядом. Он много бродил по свету, три раза уходил от семьи и возвращался, а в последний раз вернуться, зажить, как люди живут, не смог: пришел его час. Бесславный конец предрек ему еще тесть, Лауреано Карранка, когда не смог сломить упорство дочери, поклявшейся, что, если ее не отдадут за Домингоса, она и вовсе останется в девках. Как тогда кричал от ярости Лауреано Карранка: Он лодырь, он распутник, он пьет, он плохо кончит! Разгорелась в семье форменная война, но, когда все угрозы, мольбы и уговоры ни к чему не привели, Сара да Консейсан привела последний довод: взяла да забеременела, и довод подействовал. Однажды утром — май стоял — она вышла из дому, пробежала по нолю до того места, где уговорилась встретиться с Домингосом Мау-Темпо. В высокой пшенице провели они полчаса, не больше, а потом Домингос снова взялся за свои колодки, Сара же вернулась в отчий дом; Домингос шел и посвистывал, Сара дрожала так, словно солнце ее не грело. Когда она вброд переходила ручей, то возле ивняка присела на корточки, смыла кровь, которая все текла у нее по ногам.
Жоана сотворили или, выражаясь по-библейски, зачали в тот самый день, не часто случается, чтобы с самого первого раза понесла женщина. А глаза Жоана, синие глаза, каких ни у кого в роду никогда не было, ни у близкой, ни у дальней родни не встречалось, вызвали большое удивление, чтобы не сказать подозрение, хотя мы-то знаем, что несправедливо подозревать женщину, которая для того только, чтобы честно выйти замуж, распростилась с девичьей честью, по своей воле, без всякого принуждения отдавшись на пшеничном поле своему избраннику. А вот девушка, которая почти пятьсот лет тому назад пошла к ручью за водой и увидела, как приближается к ней один из тех чужеземцев, что говорили на непонятном языке и приехали из немецких земель и здешние края вместе с алькальдом-мором [2] Ламбертом Оркесом Алеманом по милости короля Жоана Первого [3] — девушка, которую, невзирая на крики и мольбы, чужеземец уволок в чашу и там изнасиловал, — та девушка с девичеством рассталась не по своей воле. Чужеземец был статен, белокож и синеглаз и ни в чем не виноват, кроме того что кровь вскипела, но девушка любить его была не в силах, когда же пришло время — родила, как умела. И вот с тех пор на протяжении четырех столетий синие германские глаза то появляются, то исчезают — словно кометы, которые пропадают по дороге с небес и возникают, когда их уже никто не ждет… Впрочем, может быть, это происходит оттого, что никому в голову не приходит отмечать их появление и вывести из этого закономерность.
…А сейчас семейство переезжает в первый раз. Они отправились из Монте-Лавре в Сан-Кристован в тот летний день, что кончился дождем. Они пересекли всю провинцию с севера на юг — чего это понесло Домингоса так далеко — не сапожник, а горе луковое, лентяй запьянцовский, — но в Монте-Лавре жить стало трудно, виной тому вино и то, что руки у мастера не тем концом вставлены. Тестюшка, одолжите мне телегу и осла, и поеду я жить в Сан-Кристован.
Что ж, поезжай, может, там ты образумишься, задумаешься о жене да о сыне, только поскорей верни мне телегу и осла, они мне нужны. Двигались по проселку, иногда выбирались и на тракт, но потом, чтобы сократить путь, приходилось ехать и вовсе без дороги, по полям, по холмам. Пообедали в тени одинокого дерева, Домингос Мау-Темпо выпил бутылку вина, да без толку: все равно оно потом вышло по дороге. Они оставили по левую руку Монтенар и держали все к югу. Дождь застиг их, когда до Сан-Кристована оставался час пути — не дождь, а прямо потоп — плохая примета; но сегодня день выдался солнечный, и Сара да Консейсан, сидя в садике, шьет юбку, а сын ее, который еще нетвердо стоит на ногах, ковыляет вдоль стены дома. Домингос Мау-Темпо отправился обратно в Монте-Лавре вернуть тестю телегу и осла да сказать, что живут они теперь в хорошем доме, что заказчики уже стучатся в дверь и работы — полно. Он вернется пешком на следующий день, хоть бы не напился — ведь хороший же человек, да вот попивает, ну, Бог даст, выправится, бывали и совсем горькие пьяницы, однако взялись за ум; вот и он возьмется, а иначе нет на земле правды: у нас ведь ребенок, а скоро и второй появится, им настоящий отец нужен, а уж я-то все сделаю, чтобы жили мы ладно и хорошо.
Жоан добрался по стене до изгороди, крепко схватился за колья: руки у него были сильнее, чем ноги, выглянул наружу. Ему еще мало что видно: полоска улицы, раскисшей от вчерашнего дождя, лужи, в которых отражается небо, желтый кот на пороге дома напротив, подставивший брюхо солнцу… Где-то поет петух. Женский голос зовет: Мария! и другой, полудетский, отзывается: Иду! Знойное безмолвие окутывает улицу: скоро грязь засохнет и снова обратится в пыль. Жоан больше не хочет смотреть, он разжимает кулаки и, с трудом повернувшись, отправляется в долгое обратное путешествие — к матери. Сара да Консейсан опускает шитье на колени, протягивает к нему руки: Иди сюда, мальчик мой, иди сюда. Руки ее обещают защиту. Но между ними и Жоаном пролег непонятный, ненадежный, бескрайний мир. По земле вьется прозрачная, кружевная тень.
Когда Ламберто Оркес Алеман поднимался на башню своего замка, глазом было не окинуть открывавшиеся перед ним владения. Он хозяин этих мест — десять легуа [4] длины, три легуа ширины, — ему дано право собирать с округи налог, а еще ему приказано заселить землю — нет, конечно, ту девушку у ручья изнасиловал чужестранец не по его приказу, но раз уж так случилось, тем лучше. Он и сам, хоть у него всеми почитаемая супруга и дети от нее, тратит семя свое на кого придется в случайных наслаждениях. Край этот не должен оставаться необитаемым: по пальцам руки сочтешь в нем деревни, и волос на голове не хватит, чтобы пересчитать дремучие и дикие леса. Да будет ведомо вам, сеньор, что женщины в этой стороне темны кожей — проклятое наследие мавров, — а мужчины молчаливы и мстительны, а король наш и повелитель призвал вас не для того только, чтобы зачинать детей по Соломонову завету, а для того, чтобы заботиться об этой земле и править ею, чтобы люди пришли в нее и остались на ней. Я заботился об этой земле и правил ею; так же буду поступать и впредь, потому что земля эта моя и все, что есть на ней, — тоже мое, а вот усердствовать в увеличении народонаселения не следует, ибо чем больше людей, тем легче вспыхивают смуты. Вы правы, сеньор, слова ваши исполнены мудрости, вы опытны, вы жили в холодных странах, там все известно лучше, чем здесь, на западных задворках этого мира. Если вы согласны со мной, поговорим о том, какой данью обложить земли, что находятся во владении моем и под властью моею… Маленький эпизодик из истории этого края…
* * *
Ну и сапожник! Поставит лату, прибьет подметку, а надоест ему — бросит работу на середине, забудет про свои колодки, про нож и шило, уйдет в таверну, побранится с нетерпеливыми заказчиками, а потом еще поколотит жену, отыграется на ней за все — и за подметки и за латы: нет мира у него в душе, беспокойный человек, не успел сесть, как уже вскакивает; не успел пустить корни, как уж думает о переезде. Перекати-поле, бродяга, он приходит из таверны, держась за стенку, и недобро смотрит на сына и говорит жене: Пожалела мне грош, проклятая баба, так получай, чтоб помнила. И снова уйдет пить с приятелями: Запишите за мной, сеньор хозяин. Я-то запишу, сеньор постоялец, только учтите: счет уже велик. Ну и что с того? Я заплачу в срок, я и грошика не останусь должен. Не раз и не два Сара да Консейсан, оставив сына на попечение соседок, отправлялась ночью искать мужа, утирала слезы концом шали — хорошо, что темно, — ходила из таверны в таверну -их в Сан-Кристоване не так уж много, но все-таки хватает — и, не входя, с порога искала его глазами, а если находила, то стояла во мраке ночи, мрачно и покорно ждала. Случалось ей подбирать его где-нибудь на дороге полубесчувственного, брошенного дружками, и мир тогда вдруг становился прекрасен, потому что Домингос в благодарность за то, что она отыскала его на страшном пустыре, где бродят призраки, закидывал ей руку за плечи и позволял увести себя домой кротко, как ребенок, — да он и был взрослый ребенок.