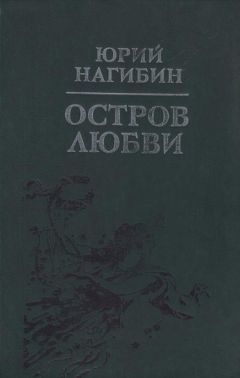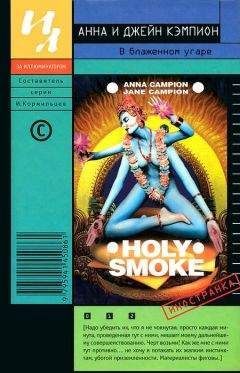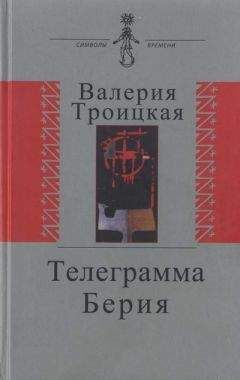Она с детских лет расположилась к тихому, безответному поповичу. Встречался он ей и в более поздние годы, ничем не испортив впечатлений о себе. Нравилось и его пристрастие к книгам, хотя сама она, зная грамоте, читать не любила. Да и внешность Василия не была ей противна. Конечно, без бородавок лучше, но куда их денешь, коли бог наслал, а так он кожей чист, скроен ладно и крепко, и покоем веет от крутого просторного лба. Она знала, что сможет легко привыкнуть к нему и даже полюбить чистого и задумчивого человека.
Прими сын хоть с каплей благодарности известие о своей женитьбе, и о. Кирилла завернул бы такую свадьбу, какой еще не видывали в астраханском духовенстве. Ничего бы не пожалел, дом с участком пустил бы в заклад, а семью — по миру. Но Василий всем своим паскудно-смиренным видом как бы говорил: воля ваша, батюшка, коль прикажете, женюсь хоть на чумичке, хоть на метле. Ишь, гусь! Старик отец высмотрел ему такое диво дивное, чудо чудное, а он рыло воротит. Ну, раз так, то нечего фейерверки жечь. Справим по-бедному. Конечно, всякого брашна наготовили вдосталь, не бывает иначе в русском православном доме, и напитков хватало: Яков, молодший брат Василия, столько зелия в себя принял, пялясь на новобрачную, что под стол скатился. Его уволокли, и свадьба продолжалась тихим, степенным манером. И все же навсегда запомнился о. Кирилле этот скромный праздник как божий подарок, как самое красивое, что было на его веку. И причиной тому — молодая. До того хороша, ангелоподобна была она в белых своих одеяниях, — жаль, что реющую облачком над нежной главой фату сняли после венца, — пленительна каждым небыстрым движением, и так блеете и ее золотисто-медовые очи, так доверчиво и нежно приоткрывались в полуулыбке розовые уста, что молодое сердце старого попа плакало от неизъяснимого и печального восторга.
Он все время, еще с церкви, ревниво и недобро наблюдал Василия. И уловил мгновение, когда этот истукан дрогнул, прижмурил свои мутные глаза, будто их ослепило. Невеста коснулась его руки, надевая кольцо, и он в грозной близости увидел ее источающее свет лицо. Но тут же снова впал в сонную одурь, послушно и вяло делал все положенное, а за свадебным столом вел себя так, будто по обязанности замещал кого-то запозднившегося. И когда кричали «горько», он всякий раз оглядывался, ожидая, что явится тот, чье место он занимал за столом, и получит следуемое по праву. Но никто не являлся, и Василий, подавив вздох, деревянно поворачивался к молодой. Она уже ждала, доверчиво и грациозно протягивала сложенные ковшиком ладони, брала в них его лицо и, вытянув губы трубочкой, целовала в краешек рта. Отец Кирилла остро завидовал сыну и клял его на чем свет стоит за холодность.
А Василий не то чтобы оставался холоден к прелестной девушке, возникшей словно из воздуха и нареченной его женой, он просто не верил в свою причастность свершающемуся. Батюшка затеял очередное дело, кажущееся ему выгодным, сколько уже таких дел было: то землицы под сад и бахчу подкупит, чтоб вскорости за полцены спустить, то пай на невод приобретет, подгадав под сезон, когда осетры перестают ловиться, то стащит мукой скопленные гроши какому-нибудь оборотистому коммерсанту, прогоревшему в пух и прах, о чем ведомо всем астраханцам, кроме умного, истинно умного, но безнадежно попутанного горячим, заносчивым нравом о. Кириллы. И это его предприятие: женить сына, намертво привязать к Троицкой церкви, огороду и саду, ко всей здешней темной и грустной жизни—тоже прогорит, как все другие прожекты. Ведь должен Василий учиться, должен все узнать и понять про слова. Зачем ему это нужно, Василий никогда не задумывался: зачем дышать, есть, воду пить. Просто без этого человек не мог бы жить. А ему еще одно условие невесть кем наказано: знать все про слова. Это не такая уж редкость: обязанные чему-то люди по всему свету водятся. Они не могут жить просто так: кому надо кистью по холсту или дереву водить, кому над природой вещей думать, кому травы на лекарства собирать, а есть такие, что всю жизнь философский камень ищут, или вечный двигатель ладят, или тщатся человеку крылья приделать, или сохранить для будущего шум своего времени. А лиши их этого, захиреют до полного изничтожения.
К тому же не мог Василий допустить, чтобы Феодосия ему принадлежала, что слова «Муж и жена есть плоть едина» относятся к ним. Неужто пойдет он с ней в спальную комнату, разденется, явив все непотребство своей наготы, ляжет в одну постель и совершит то стыдное и тайное, что нередко являлось ему в бессоннице томительными весенними ночами? Об этом и подумать страшно. Не смеет он к ней прикоснуться. Господь не допустит. Верно, и батюшка предусмотрел в житейских своих расчетах, чтобы не вышло поругания чистой голубице. Потому и не пытался он быть нежным, даже просто внимательным к молодой, хоть и выполнял все по обряду требуемое и даже касался ответно сухими губами горячей глади щеки и живого влажного краешка губ. На протяжении всего застолья держал он душу на леднике.
Лишь раз оттаял Василий, когда приведенный секретарем Ильинским пожилой седовласый господин из свиты князя Кантемира, собирающий по окраинам русской державы обрядовые песни, народные сказания и легенды, попросил разрешения спеть свадебную песню, которую он записал у поморов. Надо думать, что и сюда этот господин забрел в надежде услышать новую песню, но тихо было на свадьбе певчего.
Известно, заметил гость, что все свадебные песни поются хором. Я же исполню эту величальную единственно для ознакомления с обычаями северных народов. И завел приятным, в меру высоким голосом:
Уж как кто у нас в пиру хорош,
Уж как кто у нас в пиру пригож.
Как хорош новобрачный князь,
Новобрачный князь Васильюшко,
Что Васильюшко Кириллович.
Его личико — белый снег,
Его щечки вроде алый цвет,
Его брови-то черна соболя.
Истинно, персона моего сына, злобился о. Кирилла Что личико, что щечки, что бровки — с него писано. Он понимал, что это общие, от века заложенные в величальную приметы образцового жениха, а не данного человека, но не мог унять раздражения. Тут к певцу пристали, чтобы спел величальную и новобрачной. Он не заставил долго себя упрашивать:
У сизого голубя
Золотая голова,
Что ль у сизой у голубки
Позолоченная,
Разным шелком, разным шелком
Перестроченная.
Кабы это же, братцы,
Жена была моя,
Я бы в лете, я бы в лете —
В золотой катал карете…
«О, да!.. Лишь золотая карета по чину ее красоте. Золотая и бриллиантовая!» — стонало в груди о. Кириллы.
— Отец Кирилла, — услышал он испуганно-укоризненный шепот жены, — очнись, родной! Не ты же, кормилец, женишься!
Впервые за их долгую жизнь жена осмелилась подать голос, да еще с укоризнью. Одернула, голуба душа, своего грозного повелителя. Хорош он, нечего сказать, если такое бесхитростное существо проникло в его тайные думы. Чем же он себя выдал?.. А может, вовсе не так уж бесхитростна кроткая его спутница и много чего углядывает из своей мышиной норки? А ну, благочинный, возьми себя в руки, а главное — прочь глаза от новобрачной. Спокой и прости мя, господи! Ты же знаешь, не гнусное вожделение, а восторг и печаль владеют моей усохшей, по все еще живой душой. Господь все поймет, а людям, даже близким, разве чего объяснишь? И медленно, с усилием он увел взгляд от новобрачной.
А Василий впервые за все свадебное застолье оживился, даже алые розаны расцвели на белом снегу личика. Он о чем-то говорил, похоже, спорил с господином Ильинским и собирателем народных песен. Надо же, чего себе позволяет с важными учеными господами вчерашний школяр, а те не осаживают наглеца, с вниманием, даже интересом слушают. Не больно складно излагает свои мыслишки сын, запинается, мычит, подыскивает слова. Уж если полез в серьезную беседу с людьми старше тебя и годами, и положением, то хоть знай, баранья голова, что ты сказать хочешь, и не мямли, не мычи, не вякай, а сыпь горохом. Но снисходительных собеседников Василия, видать, и косноязычие его не сердит, слушают, поигрывая бровями от внимания, важно кивают. Ну-ка, о чем они там гуторят?
— …который раз подмечаю, — говорил Василий, — в подлом стихотворении куда больше распевности, нежели в виршах самого Феофана Прокоповича.
— Народное стихотворение и есть песенное. В ином роде и не существует, — улыбнулся господин Ильинский.
— А не есть ли всякое стихотворение — песнь? — с удивленным и поглупевшим видом изрек Василий. — Не то, что есть, а быть должно?
— Неужто высокая поэзия в нравоучительном или одическом роде нуждается в пении? — чуть высокомерно заметил господин Ильинский.
— Конечно, нет! — смешался Василий. — Я о другом… Вот чувствую, но выразить не умею…