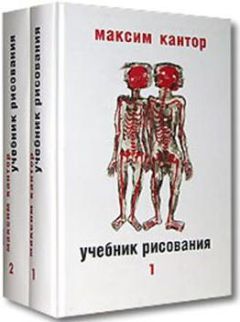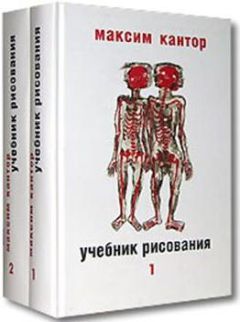Павел подумал: это и правда исторический день, это и есть настоящий праздник. Ах, напрасно отказался отец пойти сюда. Он бы тоже гордился этим днем. Он будет жалеть потом, ведь подобного дня уже не вернуть. Кто-то крикнул «Ура», но это прозвучало фальшиво. Праздник был настоящий, не похожий на Первое мая или Седьмое ноября, — и не нужно было его портить, делать таким, как прочие праздники. И вино казалось ненужным — сам воздух пьянил. И когда чернобородый Леонид, приподнявшись над толпой, крикнул чистым и звонким голосом: к черту шампанское, об пол стаканы! — это не показалось лишним. Да, правильно, так и надо было сделать в этот день. Смеясь, стали бить посуду и ходили, хрустя каблуками по стеклу. Носатый юноша сказал громко и весело: не стаканы, часы бейте! Время теперь — другое! И тут же пара молодых людей сорвала с рук часы и швырнула об пол. А одна из жен художников, та, что требовала шубы и жалела супницы, под общий хохот кричала: «Бейте, небось, не швейцарские, бейте, гости дорогие, ремонтировать дороже!» И тут же к ней подлетел кто-то элегантный и гибкий, с подкрученными усами, с пробором. И тут же прошелестело в толпе, что это и есть немецкий атташе Дитер Фергнюген, ценитель искусств. А тот уже вынимал из футляра и с поклоном вручал часы — вот так уж совпало: и швейцарские как раз, и с золотым браслетом. И несся над залом женский ликующий смех, и что-то продолжал говорить твердо и с пафосом старый Рихтер.
Съезжались гости — и какие гости! Вот опальный философ и запрещенный писатель, а вот поэт, чьи песни поет вся Москва, — и эти люди ходили по залам, узнаваемые, любимые. Но и не только местные, прибыли и друзья с Запада, те, о ком только читали, обрывками в разговорах слыхали. Они приехали сегодня сюда, просвещенные, передовые, знаменитые, — приехали как к равным. Вот художник Дутов, бурый от волнения, провел по залам французского киноактера. Известный парижский комик радовался, что все его узнавали, подмигивал, строил забавные рожи. Вот, ведомый художником Гузкиным, прошел по залу мыслитель и эссеист Пайпс-Чимни, да-да, вы не ошиблись, тот самый Чарльз Пайпс-Чимни, автор исследования о России «Крест и топор» — исследования столь глубокого, что всякий мыслящий русский стремился укрепить свое мировоззрение его чтением. Прищурившись, оглядывал Пайпс-Чимни публику, а московская публика в свою очередь следила за реакцией мыслителя — предвкушала, какие новые страницы впишет эссеист в свой классический труд. От Пайпса ничто не скроется! Однажды он уже приезжал, в шестидесятые и написал после визита книгу — так он и теперь что-нибудь судьбоносное напишет! Ох и достанется же кому-то на орехи! Беспощадное перо, воистину беспощадное! Вот, суетясь и смеясь, художник Осип Стремовский поспешил к входным дверям: приехал из Швейцарии драматург Дюренматт. Вошел, застыл на пороге, оглядываясь по сторонам, присматриваясь к картинам, к гостям. Полный, гладкий, в круглых очках, он стоял словно мера вещей, словно отлитый в Цюрихе эталон интеллекта, и рядом с ним можно было проверить себя. Подле него тут же собрались столичные говоруны, готовые вступить в беседу. Дюренматт стоял перед картиной Струева, вернее, перед чистым холстам, на котором было написано: «Где Катя? Ее нет. Где Максим? Его нет. Где Лена? Ее нет. Может быть, и не было никого?» — Это лучший групповой портрет, который я видел, — сказал Дюренматт, — невидимое присутствие. Точнее, присутствие невидимости. — Вы говорите так, оттого что не знакомы с нашими пятилетними планами, с нашим государственным бюджетом, — сказали ему. Певец абсурда и мастер гротеска улыбнулся. «Ваша экономика — произведение авангардного искусства. Но только ваш бюджет — это не групповой портрет, — заметил он, это батальное полотно, морское сражение». Беседа развивалась правильно: от смешного — к серьезному, потом — к делам. Дела обсуждались сегодня стремительно, двумя словами намечались планы. Семен Струев, человек опытный, переходил от группы к группе: постоял с художниками, постоял с Дюренматтом, пошел к другим иностранцам.
Были и другие иностранные гости, и попроще, и починовнее, на любой вкус и разных калибров. Вот послы, вот советники по делам культуры, вот корреспонденты. Было время — за знакомство с ними могли арестовать, прогнать с работы. Но настал день — и вот они стоят среди русских интеллигентов и открыто жмут им руки. Посол Германии Ганс фон Шмальц стоял об руку с известным экономистом Владиславом Тушинским, автором статьи в «Известиях» «Как нам изменить Россию в 500 дней». Статья наделала шуму, Тушинского звали теперь повсюду, он сделался знаменит в Москве, и сегодня был таким же героем вечера, как и художники, как и диссиденты. Владислав Тушинский, мужчина с рыхлым телом и нездоровым мучнистым лицом, краем глаза смотрел на картины, на собрание, на посла Германии, но мысли его были заняты совсем другим. Чувствовалось, что он никогда не расслабляется и продолжает обдумывать устройство России даже сегодня. Фон Шмальц говорил ему что-то, показывал на холсты, а он отвечал нехотя и редко поворачивался посмотреть.
А гости продолжали прибывать. Посол Австрии прошел через зал и остановился возле Маркина. Они обнялись, а потом седобородый Маркин представил свою стриженую спутницу, и Павел увидел, как посол склоняется к ее руке.
Вот люди коммерческие, представлявшие аукционы, они смотрели на картины чуть внимательнее прочих посетителей, один из них даже трогал пальцем. Как сказала девушка за спиной Павла, «понятно ведь, что эти вещи через год-другой будут стоить миллионы». И ее спутник ответил: «Что ты, Лиза, гораздо раньше». Что ж удивляться тогда, что приехали галеристы и коммерсанты. Понятно, что не приехали бы, если бы дело того не стоило. Какое еще нужно доказательство значимости происходящего? А вот — ведь это же сам Ричард Рейли, да, тот, у которого самая большая коллекция Ворхола, это он приехал. Как, вы не знаете Рейли? Впрочем, близко никто его не знает, он новое лицо в просвещенной Москве. Но слышать-то слышали, наверняка ведь слышали? Что-то такое говорили про компанию «Бритиш Петролеум», в которой он не то директор, не то президент. А что такое «Бритиш Петролеум»? — спрашивали любопытные. Ну, компания такая капиталистическая, чего-то они там такое делают, петролят там что-то важное, богатый, одним словом, человек, не нашим оборванцам чета. Он и с королевой знаком, и в Кремль хаживает. Такие люди ведь дорожат своим временем. Если приехали они — это совсем не случайность, это поворот в событиях. Сегодня действительно изменилась история, сегодня она пошла совсем по другому пути. Вот представители «Радио Свобода» и «Русской мысли». Разве вчера могли мы себе представить, что такое возможно: работники «Русской мысли» приехали в Москву, и им не крутят руки. Ждали Ирину Иловайскую, главреда издания. Неужели приедет, — шелестела толпа. Как, Иловайская, та самая, которую, будь их воля, растерзали бы партийцы, разорвали бы прямо у трапа самолета? Нет, не сама, но ее правая рука — именитый колумнист Ефим Шухман, умница, звезда «Русской мысли», тот, что эмигрировал пятнадцать лет назад, видите, прибыл и ходит не прячась. Вот, слышите? Это он разговаривает с диссидентом Маркиным, оба натерпелись от партийцев, им есть о чем поговорить.
Впрочем, вот и партийцы, они самые, и они тоже приехали, чтобы не отстать от жизни. То здесь, то там мелькнет знакомое по газетным фотографиям лицо, наблюдает, присматривается. «Ах, неужели ты думаешь, Лиза, что они не прислали сюда десятка полтора стукачей?» — «Ты полагаешь, что и сегодня? Вот сюда?» — «Конечно. Как можно быть такой наивной». И девушка Лиза захлопала серыми глазами: «Быть не может!»
Из бывших явились недавно еще гремевшие и грозившие, одно слово фигуры: инструктор ЦК партии по идеологии Иван Михайлович Луговой, по прозвищу Однорукий Двурушник (руку он потерял на фронте) и замминистра культуры Герман Федорович Басманов. Оба в немнущихся черных тройках с широкими галстуками, набриолиненные, с тяжелыми лиловыми щеками. Луговой шел вдоль полотен под руку с супругой своей Алиной Багратион. Алина Багратион и сама по себе была дамой известной, не оставившей, как говорили люди осведомленные, ни одну постель в Москве несогретой. Басманов же дефилировал по залу с личным секретарем Славой, тихим юношей, тонким, белокурым. Оба сановника явились как частные лица и подчеркнули приватность, приведя с собой свои прекрасные половины. То, что Багратион действительно в постели представляла собой нечто прекрасное и памятное, Иван Михайлович, как признанный знаток, засвидетельствовал однажды Басманову на даче в Переделкино за рюмкой армянского конька. А Басманов, даром, что в амурных баталиях представлял совсем иной род войск, выслушал с пониманием, щурясь, кивал. Хоть и не на Багратионовых флешах сражаемся, а понимаем, сказал Герман Федорович. Иван Михайлович даже позволил себе в тот вечер шутку, грубоватую, но позволительную бывалым мужчинам, а главное — снимающую пустые разногласия в половом вопросе. «Ах, — сказал он, пародируя восточный акцент, — малчик, дэвочка — какая, в жопу, разница?» И оба рассмеялись. Сегодня оба чиновника — пусть их отставка и была уже почти очевидна, люди со связями, деньгами и влиянием, — шли по залу запросто и даже здоровались с некогда опальными художниками, хлопали по плечу. «Видишь, — говорил Басманов, останавливая знакомца Дутова, потрепав его по щеке, — вот и твое время пришло, Дутов, говорил же я тебе: подожди, не суетись, еще свое возьмешь. Теперь пользуйся. Не упусти момент». И некогда опальный художник позволял себя трепать по щеке, ему уже то было в радость, что сегодня они говорят с Германом Федоровичем не через стол в министерстве, а на равных. Он даже потрепал Басманова по плечу в ответ, жест в былые времена невозможный, и Басманов улыбнулся, сверкнул коронками.