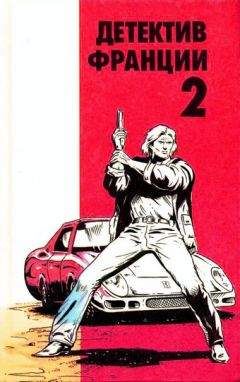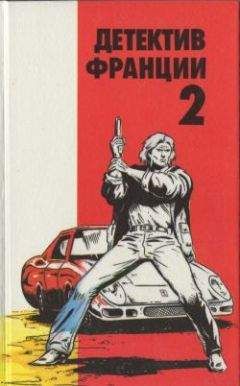Ночь опустилась, и озябшая Салли прижалась ко мне.
— Боишься? — спросил я. — Может, за кустами спрятались бандиты?
Она рассмеялась, смех у нее был приятный. Звонкий и мелодичный.
За темной массой со смутно белеющими запоздалыми цветами «Серебряной Королевы» — более морозоустойчивой, чем остальные розы, — никаких бандитов не было. Только воспоминания о счастливом времени и долгих прогулках летними вечерами, когда Салли, лежа на траве радом с моим братом Марком, снисходительно внимала моему таланту певца-любителя. С этим тоже покончено: стальными пальцами на гитаре не поиграешь.
Маленькое окно лаборатории резко выделялось оранжевым пятном на заросшей плющом стене здания. Мы вошли бесшумно; скромная прихожая, выложенная плиткой, в конце коридора налево — открытая дверь в лабораторию. Я остановился на пороге. Внутри было тепло, и Салли удовлетворенно вздохнула.
Я рассматривал полки, забитые книгами, пробирками и мензурками, керамические столешницы, на которых беспорядочно громоздились какие-то приборы, частично снятые с подставок, экстракторы и испарители, конические колбы и баллоны причудливой формы. На извилистых трубках и двух емкостях ртутного вакуумного насоса отражались блики от световой потолочной рампы, желтый натриевый свет окрашивал седые волосы старика, сидящего за столом в глубине комнаты. Он не шевелился и вряд ли слышал, как мы вошли. Я не решался нарушить тишину, боясь его напугать. Салли, должно быть, поняла мои опасения и отреагировала вместо меня. Она вернулась к входной двери, громко хлопнула ею и шумно прошагала к порогу лаборатории, как будто мы только что пришли.
— Отец… К вам посетители.
Фигура даже не пошевелилась. Я ощутил смутное беспокойство. Мы вошли в комнату. Салли обратилась к нему снова:
— Отец… Вам нехорошо?
Я уже начал тревожиться, но в этот момент с облегчением увидел, что его опущенные плечи вздрогнули. Послышалось легкое покашливание, и Дэвид Болтон обернулся. Он сразу узнал меня и встал.
— Фрэнк… Вот ты и вернулся.
— Герцог, первый визит я нанес вам.
Я пытался шутить, но его вид меня поразил.
Что случилось с моим отцом? Как он мог всего за полгода превратиться в сутулого старика с хриплым голосом, в этакий трясущийся манекен с мутными стеклянными глазами? Однако он меня узнал. Некоторые чувства, наверное, преодолевают расстояние лучше, чем взгляды.
Пожав протянутую мне исхудалую руку, я удивился, что она такая легкая и, как у лихорадочного больного, влажная. Я взглянул на Салли. Она ответила мне таким же непонимающим взглядом.
— Кажется, ты славно себя проявил?
Куда делась былая легкость самого экстравагантного человека в Блэк-Ривере, чудака, знаменитого своими выдумками на пятьдесят миль в округе?
— Я сделал все, что мог, дабы всыпать им по первое число, — ответил я.
Он положил мне руку на плечо; я едва ее почувствовал.
— Старость, — сказал он. — Я рад, что успел тебя еще раз увидеть.
От этой фразы и от тона, которым она была произнесена, во мне все похолодело. Я попробовал отшутиться.
— Да ладно вам, Герцог. Стареть еще рано. Прошу вас не забывать, что в нашей семье вы единственный годный боец…
Слова несли меня туда, куда мне совсем не хотелось. Он вяло качнул головой.
— Фрэнк, ты прекрасно знаешь, что в нашей семье только один боец: твоя мать.
Он рассмеялся каким-то нервным дребезжащим смехом. И закашлялся. Кашель был ужасный, чудовищный, словно раздирал легкие. Я подошел к нему и обнял своей здоровой рукой.
— Однако, — сказал я, улыбаясь. — Получается, мы оба годимся для инвалидной коляски. Так закажем двухместную! Ну же, Герцог! Подтянитесь! Мы ждем вас, чтобы выпить за возвращение блудного сына {24}…
Он унял свой кашель и выжал робкую улыбку.
— Ничего серьезного, зато очень шумно, — сказал он. — Я, наверное, простудился. Идите без меня, я быстро доделаю кое-что и присоединюсь к вам.
— Когда будете выходить, накиньте что-нибудь, — посоветовала Салли.
Все это время она почти не открывала рта, это меня удивило.
Она была очень привязана к моему отцу, он отвечал ей тем же. После смерти Марка он перенес на нее всю любовь, которую питал к моему брату.
Мы вышли, плотно затворив дверь, и у меня сжалось сердце, когда по ту сторону дубовой панели я услышал очередной приступ кашля.
— Салли, — спросил я, — Герцог давно в таком состоянии?
Она молча остановилась. Я посмотрел ей в глаза.
— Фрэнк, я раньше этого не видела, — ответила она. — Впервые осознала только сейчас и поразилась. Изменения происходили постепенно, так, что никто из нас их не замечал. А началось все, наверное, несколько месяцев назад.
Под нашими ногами скрипел гравий. Звук показался мне зловещим. Снова. Тот самый звук, о котором я столько раз мечтал, когда ночами кидал свой спальный мешок куда попало, прямо в липкую жижу какого-нибудь корейского рисового поля.
— Он болен, — сказал я. — За полгода так не стареют. Когда я уезжал, он был… Ах, ты же знаешь, каким он был…
А был он великолепным. Ему никогда бы не дали его настоящий возраст. Таким ярким, задорным! Он мог выйти на ужин в пижаме; проработать всю ночь в лаборатории, а в шесть часов утра надеть смокинг, разбудить мою мать и предложить ей пойти в кино; вдруг решить, что обойдется без водителя, и залить в радиатор бензин, а в бак — масло; как-то он даже возомнил, что все еще находится на каникулах у своего друга Харгривза в Лондоне, и проехал весь город по левой стороне улицы… Весь город знал о его проделках, это всех забавляло и никого не злило. Порывистый, рассеянный, очаровательный и, как химик, совершенно гениальный.
Мы уже подходили к дому, когда белый гравий захрустел под весом, превышавшим вес наших тел. На миг по нам мазануло двумя кисточками света. Как смерч, пронеслась машина. Стрельнув лучами в сторону, перекрыла поворот аллеи и осела на колесах в нескольких сантиметрах от нас. Сомнений не оставалось. Кто еще мог так тормозить? Хлопнула дверца. Я очутился в объятиях матери, от ее пылкого поцелуя у меня перехватило дыхание. Затем, взяв себя в руки, она отступила и оглядела меня. Я стоял в ярком свете под прицелом автомобильных фар и едва различал ее очертания. Она была в широком норковом манто, без шляпы. Ее черные, как тушь, волосы чуть серебрились от электрических бликов. Она была все такой же: гибкой, изящной, непреклонной, страстной. Она засмеялась своим звонким металлическим смехом.
— Фрэнки, все такой же увалень.
В ее тоне было все: ласковая, хотя и чуть высокомерная снисходительность, которая распаляла во мне желание стать кем-то выдающимся, скрытое волнение, соответствующее ее истинным чувствам, тепло и чувственность, излучаемые ее лицом и угадываемые в мельчайших складках платья. В свои пятьдесят лет моя мать казалась моложе меня.
— Вэнис, — сказала Салли, — сегодня лучше не дразнить его. Подождите до завтра. Пойдем, Фрэнки-бой.
Прозвище, которое она с Марком дала мне, когда я пытался подражать Фрэнку Синатре, в апреле сорок пятого, во время последней увольнительной Марка. Я взял Салли за руку, обнял мать левой рукой.
— Вэнис, — произнес я, — полковник американской армии не позволит так обращаться с собой даже своей матери. Извольте держаться приличий и, обращаясь ко мне, не забывайте говорить «сэр».
Она снова засмеялась. Ее смех звучал так же чисто, как хрустальный звон, который Вайли извлекал из колокольчика, призывающего к ужину. Позади нас свет от фар «кадиллака» {25} разрывал тень и выдергивал из кустарника последнюю белизну «Осенней Королевы». Пока мы поднимались по ступенькам к входной двери, чтобы выпить по последнему highball перед моей первой после возвращения домашней трапезой, я вновь задумался об Эллен Брейстер.
III
На следующее утро, когда я проснулся, декабрьское солнце изо всех сил старалось оживить мне комнату. Циферблат под моим беглым взглядом показал девять часов. Принять душ, побриться, одеться и позавтракать: времени оставалось лишь на то, чтобы приехать вовремя к назначенной встрече.