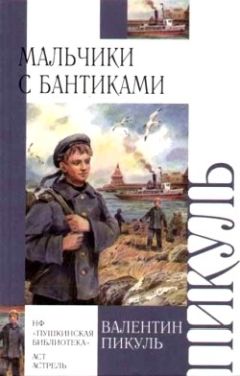Партер выпрямился в слабых креслах, и Никита едва успел сказать сам себе, что эстонцы странно задерживаются в палатках, когда их защищенные головы легко проступили вокруг сидящих. Трисмегист откинул хлопнувшую крышку и по одному извлек на эстраду шесть коротких широких поленьев, сложил их вместе и затворил ящик; потянувшись рукой себе за спину, он достал из‐за пояса блистающий в электрическом свете молоток. Первая новость о необъявленных сборах пришла с человеком, направленным в ставку Центавром, рассказал он, что же, мы попросим Центавра подняться сюда. Безгубый Центавр встал с крайнего кресла и вышел на сцену под блеянье занимающих два первых ряда энверовцев; Трисмегист не вмешался, глаза его были усталы. В сообщении Центавра, продолжал он, указывалось, хотя бы и мельком, что съемку проекта готов обеспечить скучающий Глостер; Глостер, просим тебя. Вспыхнул бешеный шепот, и Никита почувствовал горечь под языком; Глостер вырос из середины с кофейной картонкой в руке и без спешки вышел на сцену, встав в дальнем конце от Центавра. Трисмегист на мгновение повернулся к нему, но продолжал в микрофон: к нам также дошли безымянные мнения о причастности к замыслу переписчика Формана и метролога Главка; для полноты дела мы просим их выйти сюда. Две фигуры прибавились к вышедшим прежде; эти заняли сторону Глостера, но стояли как бы в полусне, даже не взглядывая друг на друга. Трисмегист еще вызвал наверх лотерейщика Клинта, ссылаясь на старую связь между ним и Энвером по линии провальных писчебумажных поставок; Никита наравне со многими покачал головой, но Трисмегист едва ли что-то заметил и наконец произнес: поднимайся, Энвер. Прошлый скупщик порывисто встал и вспрыгнул на сцену, задев сложенные обрубки; снизу брызнул и сдался смешок, кто-то выкрикнул: «Атанде», и снова сошлась изнывающая тишина. Мы просим сожителей сохранять стойкость, как бы ни обернулось выяснение, сказал Трисмегист; что должно случиться, случится быстро. Глостер допил картонку и забарабанил ногтями по пустышке, красивый и злой. Энвер сложил руки на грудь и смотрел далеко, чуть колеблясь одной ногою. Центавр и Клинт имели вид столпников; остальные стояли без лишних отличий. Трисмегист поднял из-под ног первый обрубок; Глостер, пусто сказал вольнокомандующий; поставив поленце на крышке контейнера, он вынул из рукава длинный гвоздь и уткнул острием в середину среза, после чего тремя ударами молотка утопил его в дереве. Глостер не шелохнулся, хотя перестал барабанить в стакан; Трисмегист снова поднял обрубок, развернул его к зрителям вбитым гвоздем и убрал обратно в ящик. Снизу едва зашумели, и тогда Трисмегист сказал: Главк, в этом случае гвоздь был вбит лишь на четверть, и метролог не отозвался ничем. То же самое вышло с Форманом и Клинтом; далее Трисмегист, верный жанру, назвал Центавра и, не задерживаясь, вбил его гвоздь до конца; мелко дрогнув в коленях, китайский начальник не изменил заносчивой позы, и дальше гадатель, чуть слышно повысив голос, произнес: Энвер.
Подаваемый свет тоже сделался звонче; Никита увидел, как кренятся тела на местах и болезненно желтеют эстонские каски, уверяя его в худших предчувствиях. Из призванных к выяснению один Глостер, и то в пол-лица, смотрел теперь на остающегося, пока тот, заложив руки за поясницу, промокал языком уголки пухлых губ. С первым ударом Трисмегистова молотка из обеих ноздрей у него потянулись тонкие рубиновые нити; сидящие дрогнули, и дурнота пощекотала Никитино горло. Трисмегист ударил опять, и Энвер, пошатнувшись, издал развалившимся ртом трубный звук, от которого первый ряд пал на землю, а второй укрылся за брошенными креслами; стоящий рядом с Энвером Клинт, словно бы заболев, стал отступать вглубь, ища себе стул или кушетку. Партер стенал, как птица перед грозой; кровь из Энверова носа напирала сильней, скупщик тряс головой, спотыкался, но еще держался на ногах, когда третий удар молотка вывернул его и рвота разлетелась по сцене, не достав лишь до далеко убредшего Клинта. Закричали: «Довольно», но о чем вы, подумал Никита сквозь недомогание: если вольнокомандующий прервется сейчас, завтра вы уже скажете, что не вполне убеждены, и попросите исполнить все заново; хорошо, что он никогда не идет у вас на поводу; так что не закосни, победитель, уж раз было сказано о быстроте; я не хочу ни о чем больше думать. Трисмегист, раскрасневшись, ударил еще, но слабее, чем раньше, в меру сил продлевая событие; Энвер повалился на колени и сразу на бок, ступни его обуяла чечеточная дрожь. Половина сидящих уже не смотрела, уставившись поверх соседей в парковую тьму, а допризывники казались готовыми разреветься; пока плавные эстонцы расчищали завал перед сценой, Глостер за шиворот уловил опасно плутающего по краю Клинта, и тот просветлел от его рывка. С последним ударом натрясшийся Энвер стих и улегся удобней, подоткнув локоть под щеку; Трисмегист выпрямился от ящика и убрал молоток обратно за пояс без каких-либо слов. Снизу скоро сделалось глухо, как под водой; усидевшие энверовцы не отпускали притянутых к груди кресел, но гляделись смиренно, как дети при строгом учителе. Всех как будто прижало одним потолком; началась духота, и Никита увидел, как возятся пальцы на воротниках. Снова выдвинулись техники и собрали Трисмегистов реквизит, перешагивая через рвоту; в это время Энвер раскинулся шире, перевернулся на спину и узнаваемо запел об убитой маркитантке, чуть перевирая мелодию. От жаркого секунду назад партера дохнуло льдом; пальцы бросили пуговицы и вцепились в колени. Ведущий выдохнул в микрофон и бессмысленно покивал помертвевшему собранию; Энвер, повторив две строки, с трудом оторвал неуклюжую спину от пола и медленно сел ногами вперед, улыбаясь белым запачканным лицом. Трисмегист поднял предупредительный палец, но изнемогший партер уже надорвался и взвыл; у самого уха Никиты раздалось: «Уберите», и сам он, иссохнув от зрелища, наконец потерял в себе остаток крепости и, пустой, как Глостерова картонка, опал на стоящего сзади, слыша еще, как сминается вокруг летняя тьма с искаженными голосами внутри.
Лежа так глубоко, что можно было не дышать, он все-таки видел, как вольнокомандующий склоняется над ним с катастрофической высоты; если кто-то из ставки и обозначал подлинную заботу и вместе с ней честную горечь сожительства, то это был, конечно, Трисмегист. Он родился в один день с Никитой за две тысячи километров отсюда в офицерской семье и оказался здесь с выводом войск; в девятом классе они на две четверти совпали с ним из‐за ремонта в неблагополучной Трисмегистовой «шестерке», заслужившей себе прозвище Абортарий, откуда за ним донеслась слава забитого умника; Никита как будто увлекся им, стал внимателен к ответам на литературе и обществознании, но в коридорах переселенец держался старательно отъединенно, и они не свели большого знакомства. С Трисмегистом связался отчаянный случай с записками, распространенными по классным рюкзакам в канун новолетья, когда в шестой уже завершили работы: на неразлинованной бумаге чертежным шрифтом адресату напоминалось о каком-то постыдном поступке, совершенном в течение года; щекотливость истории оказалась в том, что, как Никита смог выяснить у одноклассников, о вменяемых им прегрешениях не могло быть известно никому, кроме них самих. Так, Каримов Олег обвинялся в краже двух сторублевых брелоков из сувенирной палатки в Переславле-Залесском, куда их возили с экскурсией; сам похититель был так потрясен тогдашней удачей, что не нашел в себе сил поделиться ни с кем из автобуса на обратной дороге. Родионову Антону поставили на вид подтасовки в трех лабораторных работах по физике, не уловленные чуткой Лобковой; Мельников Игорь был уведомлен о секретных плевках в колу старшего брата на семейном отдыхе в Кемере, когда за нытье в самолете отец присудил ему бессменный наряд в столовой, а старший выхлебывал по восемь стаканов за каждой едой; малокровному же Толе Пряникову был выставлен счет за безбилетные разъезды на электричке с окраины в центр, и, хотя тайны в этом было немного, потому что в те бледные годы так катался весь город, в пряниковской записке указывалась точная общая сумма его неоплат, со злорадством подсчитанная им самим на тетрадных задворках. Никите новогодний рассыльщик попенял за случившуюся в мае нелучшую сцену с пенсионером на автовокзале, когда он не сумел подсказать нервному старику, какой выбрать маршрут, чтобы добраться в отдаленный диспансер для кожных, и нарвался на неслыханную ругань; отдышась от обиды, Никита разыграл целый спектакль, добежав до дежурного якобы ради справки, и затем посадил все еще ярившегося пациента на крайний рейс к плавням, наказав водителю не выпускать старика до конечной, где его должны встретить готовые люди. На общем сборе тридцатого декабря избегавший до этого всех обсуждений Трисмегист вел себя неудачно: единственный отказался, хотя и почти плача от совместного напора, предъявлять и зачитывать свою записку, выдвинул как открытие версию о родительском заговоре, уже давно отвергнутую всеми, и упорствовал в ней половину собрания; в довершение же многих настроивший против себя étranger пропал незамеченным из четырнадцатого изошного кабинета, где шел разговор; обнаруживший исчезновение Мельников распахнул даже шкафы с гуашью и пластилином, силясь изобличить проходимца, но не преуспел. След его потерялся на многие годы, но гремучее возвращение отыграло время небытия; в дни Противоречия он первым привел свой отряд на субботний концерт, заняв до трети зала влево от соцработников, на свой страх и риск добиравшихся до ДК через непредсказуемую смежную зону. После побега заведующего никто из персонала уже не показывался в коридорах, и Никита управлялся в одиночку: отпирал-запирал все замки, мыл полы, принимал одежду, занимался рассадкой, выставлял освещение и вел примитивную отчетность в оставшихся книгах. Трисмегистовы пластуны затесались, когда последний звонок был уже дан; заслышав непривычное оживление в зале, Никита, еще выжидавший за сценой, перебрал про себя худшие объяснения, но бояться уже было лень, и он, посмеявшись себе, вышел к зрителям с совершенно счастливым лицом, ни о чем не жалея.