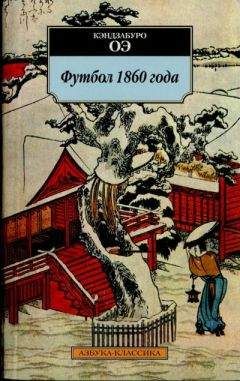— Но сейчас не поднимешь восстания, как в восемьсот шестидесятом году, да и не такое время, чтобы совершить убийство, избежав вмешательства полиции, как это было сразу же после войны, когда произошла драка между корейским поселком и деревней, — снова лучезарно заулыбался настоятель.
— Кстати, в этих записках не содержится чего-нибудь неподходящего для эпохи, когда наблюдается стремление к миру? — забросил я удочку, воспользовавшись улыбкой настоятеля. — Если содержится, то лучше, наверное, отдать их Такаси. Среди представителей рода Нэдокоро я унаследовал кровь тех, кто не ищет в событиях восемьсот шестидесятого года признаков героизма. Вместо того чтобы хоть в мечтах отождествить себя с героем-братом прадеда, мне снятся лишь отвратительные сны, будто я, дрожа от страха, запираюсь в амбаре и трусливо выглядываю оттуда, даже не пытаясь, как прадед, стрелять из ружья.
— Может быть, и правда согласиться с тобой и отдать записки Такаси? — сказал настоятель, на лице которого застыла неуверенная улыбка.
Я взял зеленоватую тетрадь, лежавшую на книге издания «Пингвин», которая досталась мне от покойного товарища, положил ее в карман пальто, и мы с настоятелем пошли на школьную спортивную площадку, где Такаси тренировал свою футбольную команду.
Над деревней расстилается безоблачное небо, дует сильный ветер, беспрерывно меняя направление, ребята молча, сосредоточенно гоняют мяч. Особенно отчаянно носится парень, похожий на морского ежа, с коротким туловищем и непомерно большой головой, перехваченной скрученным платком; он беспрерывно падает, и странно, что никто не смеется. Замершие вокруг площадки деревенские ребятишки стоят молча, с мрачной серьезностью, совсем не похожей на веселое оживление городских детей на спортивных соревнованиях.
Такаси и Хосио, стоящие посреди бегающих ребят руководящие тренировкой, сделали нам с настоятелем знак подождать, но тренировку не остановили. Момоко и моя жена в «ситроене», далеко объезжая гоняющих мяч, подъехали к нам.
— Ужасное зрелище, а? На вид никто из них не получает удовольствия, почему же они так увлечены?
— Эти ребята, чем бы ни занимались, все делают с увлечением. Нам с Момо такое серьезное отношение к футболу нравится. Мы собираемся каждый день приходить сюда смотреть, — сказала жена, отказываясь поддержать мое мнение о тренировке.
Я хотел ударить по мячу, вырвавшемуся из круга ребят и катившемуся ко мне, но нога пнула воздух, едва задев мяч, и он, завертевшись волчком, остановился, взметнув пыль. Женщины в машине, бесстрастно наблюдавшие за моими упражнениями с мячом, даже не улыбнулись. Чтобы вывести меня из замешательства, настоятель изобразил на лице свою неизменную улыбку, но мое подавленное настроение от этого лишь усилилось.
Вечером после ужина, когда я лежал возле очага, ко мне подошел Такаси.
— Мицу, в записках есть потрясающие вещи, — мрачно сказат он тихим, невыразительным голосом, чтобы не услышала пьяная жена. Я смотрел во тьму, стараясь не встречаться с ним глазами. И прежде чем я услышал его следующие слова, во мне уже вскипело отвращение.
— Наш старший брат в университете изучал немецкий язык. Употребляя слово Zusammengeschaft[14], он пишет, что армия — сборище отвратительных типов! Ударят такого, нарушившего строй на ротных учениях, и он, оставив письмо командиру роты, кончает с собой. А командир роты — брат.
«Какова ты, сегодняшняя Япония? Ты в хаосе, ты антинаучна, неподготовленна. К тому же и нерешительна. Сейчас в Германии существует карточная система, а печатать карточки начали еще с того дня, как Гитлер пришел к власти. Прошу, Советский Союз, полей нас дождем бомб. Японцы отравлены мирными снами и, дойдя до нынешней критической точки, как обезумевшие бросаются то вправо, то влево» — вот что он пишет. И как о достижении, которого он добился в армии, говорит: «Хоть немного закалил свою волю. Окреп физически». Он пишет, что читать нужно широко, глубоко, целенаправленно, пишет об искусстве глубокого дыхания Бэйхо Такасима. «В отряде X на острове Кайнандзима сам командир говорит, что можно обесчестить Virgin-Fraulein[15], но потом сделай все, как полагается. Конечно, „сделать все, как полагается“, означает to kill[16]», — пишет он и тут же приводит моральную заповедь: «Чтобы достичь вершины горы Фудзи, нужно сделать первый шаг». Он подробно описывает и свои чувства, когда рассказывает о шпионе, местном жителе острова Лейте: «Командир отряда сказал, чтобы задержанного заколол кто-нибудь из солдат-первогодков, но я перехватил его и впервые в жизни, размахнувшись японским мечом, отрубил голову туземцу». Ты будешь их читать, Мицу?
— Меня эти записки не интересуют, и я не собираюсь их читать, — наотрез отказался я. — Я предполагал, что там написано что-то в этом роде, и поэтому отдал их тебе, Така. Надеюсь, этим все и ограничивается? Обычная милитаристская песня?
— Нет, для меня этим не ограничивается. Я нашел родного себе человека, Мицу, который на бой смотрел как на свою обычную жизнь, был активным творцом зла. Живи я во времена старшего брата, этот дневник мог бы оказаться моим собственным, верно? А если так, то мне кажется, облик моего мира обретает новые черты, — резко заявил Такаси, игнорируя мое возмущение. Голос его на мгновение пробудил сознание пьяной жены. Когда я отвернулся от него, я увидел, как жена, подняв голову, вся подалась в сторону брата, сродни преступнику, полному скрытой, необузданной силы.
7. Снова танцы во славу Будды
Проснувшись на следующее утро, я сразу же обнаружил, что, как и в Токио, сплю один; и хотя ныли все клетки моего истерзанного тела и мучила внутренняя опустошенность, но зато теперь не нужно было позорно дрожать, чувствуя на себе уничтожающий взгляд лежавшей рядом жены. Я испытал чувство освобождения. И как обычно, когда я сплю один, принял такую позу, которую не мог увидеть никто посторонний. Раньше я избегал, даже мысленно, уточнять, какие обстоятельства вынуждают меня принимать именно такое положение. Но теперь я осознал, что это поза недоразвитого существа, лежавшего в деревянной кроватке, на которое растерянно смотрели мы с женой, приехав в клинику, чтобы забрать его. Врач высказал опасение, что перемена обстановки может привести к смертельному шоку. Но оставили мы нашего ребенка в клинике скорее потому, что брезгливая жалость к этому несчастному существу и нас самих могла привести к смертельному шоку.
Это, конечно, не оправдание. Если бы наш ребенок умер и, превратившись в бесплотного духа, прилетел, чтобы покарать нас, во всяком случае, я не стал бы, наверное, бежать его.
Прошлой ночью жена, не желая идти в нашу комнату, улеглась спать у очага вместе с Такаси и его «гвардией». Перед сном она снова завела разговор о новой жизни, о внутренней опустошенности и смерти, который мы уже вели на втором этаже амбара, разговор, всплывший в ее воспаленном алкоголем сознании, и доказать ей что-либо было совершенно невозможно.
— Ладно, пойдем спать. Будем пить виски под одеялом! — Когда я предложил это, сильно опьяневшая жена отказалась, стараясь говорить тихо, и не потому, что боялась быть услышанной Такаси и его друзьями, а из-за интимности самой темы.
— Начать сначала и родить ребенка — ты говоришь так, будто тебя это не касается. Но ведь, если вдуматься, и ты, Мицу, сам должен все начать сначала. А у тебя нет такого желания. Почему же я, подчинившись твоему приказу, безропотно, как послушная собачонка, должна лезть под одеяло?
И тогда я, пожалуй даже с чувством облегчения, оставил жену и ушел. Такаси не вмешивался в наше небольшое столкновение. Поддерживаемый незнакомым голосом брата, звучавшим из зеленоватой тетради, он, точно винт с острой нарезкой, пытался ввинтить себя в мрачную глубину своих собственных проблем. А я не хотел, чтобы призрак брата довлел надо мной, да и не испытывал особого волнения. Я отвернулся от его записок, считая их обычной милитаристской песней. Чем вызывать трагический образ окровавленного брата, лежащего на неведомом поле боя, куда лучше уснуть, открыв окно в мир фантазии…
Я уже давно лежу, укрывшись одеялом с головой, и вдыхаю запах своего разогревшегося тела. Мне кажется, что я различаю запах всех своих внутренностей. Как червяк длиной в 172 сантиметра, я влез головой в самого себя, замкнув своим собственным телом кольцо. Я чувствую, как и острая боль, пронизывающая все мое тело, и чувство опустошенности превращаются в тихое, тайное наслаждение. Наслаждение от сознания, что я свободен от посторонних взглядов, что боль и опустошенность — мое собственное достояние. Я, чреватый болью и опустошенностью, видимо, могу, точно самое низкоорганизованное существо, размножаться простым делением. Я «тихий человек». С трудом дыша, я лежу под одеялом в теплой, пахучей тьме. Выкрасив голову в красный цвет, я во тьме под темным одеялом вдыхаю запах своего тела и пытаюсь представить себе, как я умираю от удушья. Постепенно вместе с удивительной реальностью существования отчетливо всплывает этот мой облик.