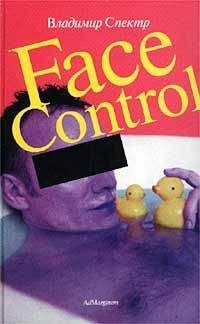– Пробей еще и клитор, – предлагаю я.
– Только когда ты то же самое сделаешь со своим членом.
Ребята, работающие в салоне, честно предупреждают:
– Грудь будет болеть, и довольно долго.
– Это что, я не смогу ее трогать? – негодую я.
Ребята смеются.
16:50. Курим с чехами из салона. Примерно нашего возраста, два парня и одна девчонка, имеют очень похожие имена типа Янек, Ян и Яна. По-моему, здесь всех так зовут. Ну, еще Густавами.
– В Чехии не очень любят русских, – говорит Яна. – Из-за танков.
У Яны большой красивый бюст и проворный язычок, которым она часто облизывает свои и без того влажные губки. Возникают мысли о минете. Здорово было бы кончить на эту прекрасную грудь.
– Русских не любят в основном те, кому уже за сорок. Молодежи по хую, – пытается сгладить неловкость Ян.
Он выглядит немного уставшим, худой и бледный, с темными кругами под глазами. Я думаю о героине. Спросить, что ли?
– Да нам самим это по хую, – говорит Бурзум.
– Только не мне. – План настолько хорош, что неожиданно сильно цепляет и тянет на разглагольствования. – Всегда обидно слышать подобное. Когда тебя отождествляют с твоей ебаной родиной. Чувствую себя отчасти виноватым.
– Почему? – недоумевают чехи. – Тебя ведь тогда еще даже на свете не было.
– Обидно потому, что я, еврей, который родился в мрачной холодной стране, виноват, потому что до сих пор не слил из нее, как бы стыдно ни было называться россиянином.
– Тебя приняло, Мардук, – по-детски радуется Бурзум. – Тебя с твоими затяжными марафонами стало принимать конкретно и сразу даже от травы. Вот круто!
– При чем здесь «приняло»? – Я пытаюсь продолжить мысль: – Просто я антиглобалист. Борец с корпорациями. Знаете, почему я ненавижу свою страну? Потому что Россия и есть самая настоящая корпорация. Жесточайшая государственная машина, катящаяся куда-то бессмысленно…
– Бессмысленно? – перебивает меня Яна.
На мгновение взгляд вновь притягивается к ее груди. Кожа, наверное, нежная, белая, а соски… Скорее всего, большие и темные, твердеющие при любом, даже случайном, прикосновении.
– Все глобальное и не имеющее души – бессмысленно. Какая душа может быть у государства? Ни у него, ни у какой другой корпорации души нет. Ну как, например, у маленькой армянской хлебопекарни в Отрадном она есть, пусть маленькая и хачевая, но есть, а вот у хлебозавода номер девять нет. Сколько ни ищи эту самую душу в предприятии, выпускающем тонны булок в день, все равно не найдешь.
8 марта, понедельник
10:20. Пражский аэропорт. Бурзум молчаливо и мрачно курит один Salem за другим. Я тоже не разговорчив, после вчерашней ссоры чувствую себя, в буквальном смысле этого слова, выпотрошенным.
«Как же получается, что пустяковая обидка, кинутая то ли мной, то ли Бурзум, выросла в большую свару? – Размышлять неохота, но мысли сами, проворным десантным отрядом, лезут в черепную коробку. – Стоило ли мне уходить? Похоже, сознательно ее спровоцировал. Ведь ясно было, что не останется Бурзум одна, в злости метнется за мной в город, а гордость не даст следовать по пятам и… кто знает, чем и где все это закончится? Когда вернулся, оттаявший и пьяный, Бурзум не было. Маленький червячок снова ухватился за сердце. Вот тебе, идиот, знал же, предугадывал! Пошла, сука, крутить жопой в ночных полубардаках, сниматься каждому встреченному усатому славянину. Дрочишь от тоски в пустом номере гостиницы „Европа“, а твою девочку, может, уже который час натягивает кто-то большой и грузный, ебет в догги стайле на диване, кухонном столе или подоконнике. Сиди теперь, вытирай сопли. Хлопнул дверью, проторчал три часа в безжизненном баре, выжрал поллитра абсента? Что за результат? Ревность, опротивевший Staropramen под пошлый саундтрек местного MTV и саднящее, такое знакомое, но от этого не ставшее безболезненным, чувство глобальнейшего одиночества».
Ранним утром, собираясь на самолет, обнаружил вокруг шеи странную красноватую сыпь.
– Похоже на сифак, – авторитетно заявила Бурзум. – Суешь свой член всюду…
Я сел на измену, которая не покидала меня до самого Шереметьева.
16:50. Шереметьево-2. За все время полета мы не сказали друг другу и десятка слов. Бурзум продолжает курить. Я ловлю такси. В машине по-прежнему храним молчание. Только уже неподалеку от дома Бурзум вздыхает:
– Черт, я забыла в гостинице очки. Те, что ты купил мне, от Fendi.
Целую ее на прощанье. Губы холодны и безразличны.
17:30. Мосфильмовская улица. Кожно-венерологический диспансер № 12. Прямо с сумками вваливаюсь в кабинет врача.
– У меня сыпь какая-то, не посмотрите?
Врач, потертая жизнью женщина средних лет с остатками былой красоты на увядающем лице, улыбается:
– Значит, неплохо отдохнули, да?
19:10. Дома. Нельзя сказать, чтобы родственники были рады моему приезду. Во всяком случае, не жена. Старается выглядеть приветливо, но по настороженно-подозрительным взглядам, бросаемым украдкой, определяю, что Света не в духе.
– Что-нибудь не так? – спрашиваю.
Надо же, а я-то, оказывается, соскучился!
– Все в порядке. Нормально, – она отвечает тихо, мне практически приходится читать по губам, – все равно, даже когда ты в Москве…
– Что, когда я в Москве?
– Не важно.
– Ну как это не важно! Мы давно не виделись, я только приехал, и вот, какие-то непонятки! – растерянно пожимаю плечами. Мне всегда хорошо давалась этакая беспомощная растерянность. По-моему, она должна вызывать сострадание.
– Просто я не вижу разницы, здесь ты или где-нибудь вдали от дома. Ты все равно давно живешь вне нас. Сначала ты противопоставил себя социуму, обществу, которое ты презрительно называешь нормальным, теперь семье.
– Подожди, Света, во-первых, я и не думал никому себя противопоставлять. В противном случае я бы давно отдыхал в Кащенко.
– Так тебе там и место. Ты ведь давно уже сдвинулся. И сам знаешь из-за чего. Я думаю, у тебя необратимые процессы в психике.
– Почему?
– Из-за наркотиков. Ты очень изменился за последние два года. Конечно, наркотики присутствовали в твоей жизни и раньше, но сейчас, мне кажется, ты уже не можешь и нескольких дней прожить без изменения сознания.
– Ты привез мне подарок? – прерывает ее сын.
22:15. Набираю номер Бурзум.
– Это аллергия. Я был у доктора.
– Уже?!
– Ты же знаешь, меня парит неопределенность.
– Ну ты и трус, Мардук! – просто чувствую, как она улыбается. – А я уже думала – наградил меня, скотина.
– Интересно, почему это я? Ты что, святая?
Бурзум выдерживает благородную паузу.
– Знаешь, гадкий Мардук, мне хватает, что я, замужняя вообще-то женщина, тусуюсь с таким подозрительным типчиком, как ты.
– Ну и где же «замужняя вообще-то женщина» провела последнюю ночь?
– Это ты меня спрашиваешь, блядский Мардук?
– Я имею на это право.
– Вот и нет. Если кто и имеет, так эта мой муж. И, заметь, я его на хуй посылаю с такими вопросами. А тебя… – Бурзум осекается, понимая, что наговорила лишнего.
– А меня и подавно пошлешь, – продолжаю ее мысль.
– Ну… – Бурзум не находится, что сказать.
Я молча вешаю трубку. Бурзум перезванивает сразу:
– Черт, Мардук, не хочу с тобой сраться. Я всю ночь проторчала в этом идиотском баре напротив, все пила сливовицу и надеялась, что ты придешь…
– Сливовицу, – проникаюсь какой-то неслыханной нежностью («девочка, малышка моя!»).
– Ну да, – Бурзум примирительно вздыхает. – Не ругайся, пожалуйста. Я уже успела соскучиться.
19 марта, пятница
Всю неделю безуспешно пытался отвыкнуть от безделья. Вставал ни свет ни заря, бегал вокруг дома, забил неподъемное количество разной важности стрелок, не употребил ни грамма алкоголя, не говоря уж о других средствах. Почти каждый день встречался с Бурзум. Никого, кроме нее, видеть рядом не хотелось. Периодически названивали снятые ранее девки, но все возможные интрижки откладывались на потом…
Приближать это «потом» не было нужды. Мне было хорошо и покойно, словно все уже определилось, мы оба разобрались в чувствах и отношениях и давно уже живем вместе.
К сожалению, это была лишь видимость. Спокойствие кончалось всякий раз с наступлением тьмы. Каждый вечер отвозил я Бурзум домой, фактически передавая на руки мужу. Мое сердце переставало биться, лишь только я представлял, как моя колдунья возвращается в свое ебаное семейное лоно и играет отвратительную роль Спутника Жизни. Наверное, Бурзум чувствовала то же самое в отношении меня. Как-то, разглядывая мои старые фото, она проронила:
– Ужасно, ноты никогда не будешь моим, Мардук, все напрасно.
Я знал, что девочка права, но признаться в этом не посмел, не столько перед ней, сколько перед самим собой. Да и что для нас чужие переживания? В конце концов, это совсем не значило, что я принадлежу другому человеку. Просто в этом мире иногда встречаются одиночки, отвергающие рабскую зависимость от кого бы то ни было: спутника жизни, родителей или детей. Конечно, есть видимость: штампы в паспортах, общая жилплощадь и дети, но что, если в жилах одного течет лишь розовая вода, а в венах другого кипит благородная черная кровь?