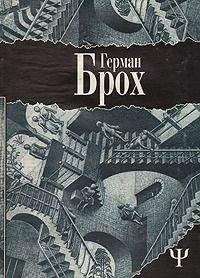Добравшись до своей квартиры, он прежде всего черкнул записку Бертранду, который, должно быть, обрадуется возможности обсудить с ним тревожные события последних дней в Штольпине, Он написал также Руцене и, решив дождаться ответа, отправил обе записки со своим посыльным, Он соскучился по уюту своей квартиры. За закрытыми окнами все еще припекало по-летнему жаркое солнце, Иоахим открыл одну створку и с удовольствием выглянул на тихую улицу; день близился к вечеру, Ночью можно было ожидать дождь: на западе вздымалась серая стена облаков. Виноградная лоза на заборах палисадников приобрела красный цвет, на тротуаре лежали желтые каштаны, а лошади на углу улицы спокойно и с какой-то грустью склонили головы перед четырьмя дрожками к своим передним ногам. Иоахим высунулся из окна и увидел, как слуга открывает другие окна; когда он при этом тоже выглянул в окно, Иоахим, смотревший вдоль стены, кивнул ему и улыбнулся. В то время как слуга распаковывал вещи, Иоахим все еще смотрел на тихую улицу, на которую уже начали опускаться первые сумерки. Затем он отошел от окна; в комнате стало прохладно, и только в некоторых местах в воздухе еще остались висеть кусочки лета, и это наполнило Иоахима сладостной печалью. Как приятно снова ощутить на себе форму! Он прошелся по своей тесноватой квартирке, осмотрел вещи и книги. Да, этой зимой ему хотелось бы побольше почитать. Затем, вспомнив, он даже испугался: через три дня он ведь должен опять все это покинуть. Он сел, словно мог продемонстрировать этим свою оседлость, распорядился закрыть окна и приготовить чай. Через какое-то время вернулся посыльный, о котором он уже забыл господина фон Бертранда в Берлине нет, но его приезд ожидается в ближайшие дни, а дама не дала никакого ответа, а просила передать, что тотчас же придет. У Иоахима было ощущение, что только что улетучилась какая-то маленькая надежда; он почти готов был пожелать, чтобы все было наоборот: лучше тотчас же пришел бы Бертранд. К тому же ему необходимо было купить подарок. Но уже через несколько минут раздался дверной звонок: это была Руцена.
На занятиях по плаванию в кадетской школе он боялся прыгнуть в воду, пока однажды учитель плавания, не долго думая, столкнул его в воду; и поскольку в воде оказалось просто приятно, то он засмеялся. Руцена влетела в комнату и повисла у него на шее, В воде было приятно, и они сидели, взявшись за руки, обмениваясь поцелуями, а Руцена без умолку тараторила о вещах, взаимосвязь которых была ему непонятной. От неприятного чувства не осталось и следа, счастье было бы почти что безоблачным, если бы с новой остротой внезапно не всплыла досада о забытом подарке. Но поскольку все, что ни делает Бог, совершается к лучшему или, по меньшей мере, к хорошему, то он направил Иоахима к шкафу, в котором уже несколько месяцев лежали позабытые кружевные платочки. И пока Руцена, как обычно, готовила ужин, Иоахим нашел голубую ленточку и тонкую папиросную бумагу и пристроил пакетик с платочками под тарелку Руцены. Но она лишь мельком взглянула на подарок -- подошло время сна.
На следующий день он опять вспомнил, что ему ведь скоро необходимо уезжать. Он сообщил, запинаясь, об этом Руцене. Но ожидаемого всплеска горя и ярости не последовало, более того, Руцена просто сказала: "Не думать об этом. Оставайся". Иоахим приподнялся; а она ведь права, почему бы ему и действительно не остаться здесь? В какой же все-таки опале он пребывал, когда бесцельно слонялся по двору и прятался от отца. Кроме того, ему показалось крайне необходимым дождаться Бертранда в Берлине. Может быть, это была некорректность, своего рода гражданская неаккуратность, в которую его вовлекала Руцена, но она давала ему ощущение маленькой свободы. Он решил, что утро вечера мудренее, и, проведя эту ночь с Руценой, на следующий день утром он написал матери, что служебные обстоятельства задерживают его в Берлине немного дольше, чем планировалось; другое письмо подобного содержания он тоже вложил в конверт, она должна была, если сочтет это необходимым, передать его отцу. И только позже до него дошло, насколько бессмысленным все это было, ведь и без того вся почта попадала вначале в руки отца; но теперь было слишком поздно -- письма уже ушли.
Он вышел на службу; вначале присутствовал на занятиях по верховой езде. Занятия проводили вахмистр и унтер-офицер, оба с длинными кнутами в руках, а вдоль стен перемещалась цепочка лошадей с новобранцами в тиковых кителях. Пахло подвалом, и мягкий песок, в который погружались ноги, вызывал в нем слабую тоску по Гельмуту и напоминал о том песке, которым было засыпано тело Гельмута. Вахмистр щелкнул кнутом и дал команду перейти на рысь. Тиковые фигуры начали ритмично раскачиваться на фоне стен вверх и вниз. Вскоре на осенний сезон в Берлин должна приехать Элизабет. Правда, это не совсем так: они никогда не приезжали раньше октября, да и дом еще просто не может быть готовым. К тому же он, собственно говоря, ждет вовсе не Элизабет, а Бертранда; его, конечно, он и имел в виду. Он видел перед собой его, едущего вместе с Элизабет рысью, обе фигуры поднимаются и опускаются в стременах, Удивительным было, как тогда лицо Элизабет превратилось в ландшафт и как он мучился, пытаясь придать ему естественный вид. Он попробовал проделать то же и с лицом Бертранда, попытался себе представить, что Бертранд, поднимаясь и опускаясь в стременах, скачет вдоль стены, но отказался экспериментировать; это казалось богохульством, и он радовался, что уже больше не видит перед собой лица Гельмута. Тут вахмистр дал команду перейти на шаг, и в манеж принесли белые балки для препятствий и сами препятствия Ему в голову пришла мысль о клоунах, и он вдруг понял то, что когда-то говорил Бертранд: родина пребывает под защитой цирка. Он все еще не мог понять, что привело его тогда к падению перед поваленным деревом.
Он снова проезжал мимо машиностроительного завода "Борсиг", и снова там стояли рабочие. Однако у него не было ни малейшего желания видеть все это. Он не принадлежал к этому миру, и было излишним выделяться на его фоне яркой формой. Бертранд, может, против своей воли, но относился к этому миру и уже вжился в него; между тем и о Бертранде он не хотел ничего больше знать; да и лучше всего было бы вернуться в Штольпин. Невзирая на это, он остановил повозку возле квартиры Бертранда и обрадовался, когда услышал, что господин фон Бертранд прибудет вечером. Прекрасно, он в любом случае хотел бы договориться на вечер, и Иоахим оставил записку, в которой сообщал об этом своем намерении.
Они отправились в театр, на сцене которого стояла Руцена, выписывая руками убогие жесты. В антракте Бертранд сказал: "Это все-таки не для нее; мы найдем ей что-нибудь другое", и Иоахима снова охватило чувство защищенности. За ужином Бертранд обратился к Руцене: "Руцена, вы ведь становитесь сейчас знаменитой и великолепной актрисой?" Естественно, она бы стала, еще бы ей не стать такой! "Да, но что будет, если вы передумаете и бросите нас? Сейчас мы так много заботимся о том, чтобы вы стали знаменитой и великолепной, и в одно мгновение вы оставите нас ни с чем, и мы будем чувствовать себя опозоренными. Что прикажете нам делать тогда?" Руцена задумалась, потом сказала: "Нет, охотничье казино". "Ну, нет, Руцена, никогда не стоит возвращаться назад. Есть ведь кое-что, что стоит выше театра". Руцена расплакалась: "Ведь это не для нашего брата. Иоахим, он плохой друг". Вмешался Иоахим: "Бертранд же шутит, Руцена". Но и у него самого возникло неприятное чувство, и он находил, что Бертранд вышел за рамки тактичности. Бертранд же, напротив, улыбнулся: "Да нечего тут плакать, ведь мы размышляем о том, как нам сделать Руцену знаменитой и богатой. Ей бы пришлось тогда всех нас содержать". Иоахим был шокирован: как заметно дичает нрав человека, занимающегося коммерцией.
Позже он сказал Бертранду: "Зачем вы ее мучаете?" Бертранд ответил: "Следует произвести предварительную подготовку, а резать можно только по живому. Время для этого сейчас пока что есть". Бертранд говорил, словно врач.
То, чего он побаивался, случилось. Письмо попало в руки отца, и тот, очевидно, снова впал в неистовство, поскольку мать написала, что случился новый приступ. Иоахим удивился своему равнодушию: он не испытал беспокоящего ощущения обязанности вернуться домой, его приезд все равно был бы слишком преждевременным. Гельмут поручал ему помогать матери, ах, едва ли ей можно было помочь; то бремя, которое она взвалила на себя, ей, наверное, придется нести самой. Он ответил, что приедет в ближайшее время, и не приехал, оставил все, как было: ходил на службу, не предпринимал абсолютно ничего, чтобы что-либо изменить, и с каким-то необъяснимым страхом отодвигал в сторону любую мысль о том, что ему следовало бы заняться делом. Для того чтобы сохранить привычное течение жизни, иногда требуется приложить определенное усилие, а это может оказаться столь злой штукой, что люди, которые продолжают заниматься делами, словно все в полном порядке, часто казались ему ограниченными, слепыми и почти что дураками. Вначале он так не считал; но когда до его сознания в очередной раз дошла цирковая театральность службы, он обвинил в этом Бертранда. Да, даже форма и та не хотела сидеть на нем так, как прежде: ему вдруг стали мешать эполеты, неудобными казались манжеты рубашки, а как-то утром, стоя перед" зеркалом, он задал себе вопрос, а почему, собственно, он должен носить саблю с левой стороны. В мыслях он бежал к Руцене, говорил себе, что любовь к ней, ее любовь к нему-- это что-то такое, что неподвластно всем этим сомнительным традициям. И когда затем он подолгу смотрел ей в глаза и мягким прикосновением пальца проводил по ее ресницам, а она принимала все это за любовь, он часто втягивался в какую-то пугающую игру, позволяя ее лицу темнеть до неузнаваемости, вплотную подходя к той черте, где уже возникала угроза перейти за грань человеческого и лицо переставало быть лицом. Многое становилось похожим на мелодию, о которой думают, что ее невозможно забыть, но которая все-таки ускользает, чтобы каждый раз приходилось, превозмогая боль, снова ее искать. Это была неприятная и безнадежная игра, зло и раздраженно хотелось, чтобы и за это отчужденное состояние ответственным можно было бы сделать Бертранда. Разве он не говорил о своем демоне? Руцена ощущала раздражительность Иоахима, и после долгого угнетающего молчания она как-то резко и неумело взорвалась, причиной чему было недоверие, которое она испытывала к Бертранду после того вечера: "Ты меня больше не любить... или нужно вначале друга спрашивать можно ли... или Бертранд уже запретить?", и хотя это были злые и сварливо сказанные слова, Иоахим их слушал почти с радостью, ибо они были подобны облегчающему подтверждению его собственного подозрения, что все беды имеют демоническое происхождение и кроются в Бертранде. Ему казалось похожим на последний акт таящего в себе беду мефистофельского и лицемерного деяния, если Руцена не привяжется сильнее к нему, а невзирая на взаимное отвращение, переметнется со своими грубыми неконтролируемыми скандалами к Бертранду и к его не менее оскорбительным шуткам; между другом и любовницей, которые были столь ненадежны, между этими двумя гражданскими он ощущал себя так, словно попал между двумя жерновами бестактности, которые начали его, беспомощного, перемалывать. Попахивало дурным обществом, иногда он даже не знал, нашел ли Бертранд ему Руцену или же он через Руцену вышел на Бертранда, пока он с ужасом не обнаружил, что больше не может контролировать ускользающую и уплывающую глыбу жизни и что он все быстрее и все глубже втягивается в безумные игры воображения, и все становится ненадежным. Но когда он при этом подумал, что ему следовало бы поискать выход из этого смятения в религии, то снова разверзлась пропасть, отделявшая его от гражданских, ибо по ту сторону пропасти стоял гражданский человек Бертранд, вольнодумец, стояла католичка Руцена, оба они были для него недостижимы, и казалось даже, что они радуются его одиночеству.