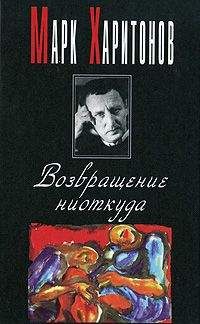Он остановился, видимо, уловив выражение моего лица.
— Кажется, я не с того конца начал, да? Вы так смотрите на меня… Извините. Меня самого сбил… этот… — кивком головы показал на дверь и голос невольно понизил. — Про что он вас спрашивал? Про ощущения, про чувство вины?.. Ну, как после этого приступать? Смежные профессии осваивают. Слышали звон!.. Экспериментальные спектакли играют… А впрочем, что значит не с того… Не так уж это далеко от нашей темы… может, в каком-то смысле даже подводит. Для вас ведь мои слова не совсем в новинку, не правда ли? Вам это самому знакомо. Ощущение тупика, растерянности, какого-то бессилия перед жизнью. Неспособность что-то понять… или вспомнить. А надо, непременно надо. И не только ради себя, вот ведь что еще важно. Иначе с какой стати вы бы сюда пришли, тут Егорыч прав, не так ли? Одному, бывает, не справиться, нужна, глядишь, помощь, толчок со стороны. Пока нас не выбьет из колеи, мы чего-то в жизни просто не чувствуем и не осознаем, так человеческая природа устроена…
Был ли это тик, или он мне в самом деле подмигивал, как своему? — как будто призывал не притворяться. На что он намекал?.. Я не хотел откликаться, не хотел на него смотреть, я никогда не видел этого гладкого подбородка.
— Вы словно все чему-то сопротивляетесь, — он усмехнулся. — Ну ничего, не все сразу. Дойдет понемногу. Пофилософствуем еще немного на общие темы. Пусть слушают, если хотят, все равно вряд ли поймут. Меня, видите ли, особенно занимает вопрос, существует ли связь между состоянием наших мозгов или душ — и состоянием внешним? Причем именно взаимная связь. Тут обсуждались разные гипотезы, иногда самые фантастические. Вроде того, что внутри громадных масс могут возникать и накапливаться некие ощутимые энергии, положительные или отрицательные. А то еще, скажем, в известных легендах говорится о людях, на которых якобы держится некое равновесие мира. Их должно быть всегда строго определенное число. Допустим, тридцать шесть, но в любом случае не меньше. Никто этих людей не знает и знать не должен. Более того, они и сами даже не догадываются, что на них сходятся некие нити. Что это за равновесие, толковать можно по-разному; но по некоторым толкованиям для него не безразлично ни малейшее доброе движение, ни шевеление зла, ни мелкая фальшь или недобросовестность мысли. В нормальные времена всякие мелкие сдвиги компенсируются, запас устойчивости поддерживается как бы сам собой. И если кто-то из этих тридцати шести — или сколько их там — выбывает, его заменяет другой. Но непременно должен заменить. Как происходит выбор и замена, от нас скрыто. Но ведь сама природа умеет заботиться о воспроизводстве определенного набора нужных для самосохранения особей. Как поддерживает, например, нужную ей пропорцию мужчин и женщин. Или создает, скажем, органы, непонятно зачем нужные, как будто даже излишние. Их, может, следовало бы даже удалить, чтоб зря не воспалялись. Но оказывается, при некоторых обстоятельствах — болезни, опасности… да что это с вами? Вы побледнели… Вам нехорошо?.. воды?..
Я сделал знак: ничего не надо… прошло… Я не знал, что это было: гладкий подбородок окаймился черной бахромой, лицо поплыло… Вдруг он пальцем поманил меня приблизиться, пальцем же сразу пояснил: вместе со стулом. Теперь я сидел за столом против него. Он что-то написал на лежавшей перед ним бумажке, повернул ко мне. «Будьте осторожны», — прочел я. Посмотрел на меня в надежде встречного движения, но я опять мог только пожать плечами. Он щелкнул зажигалкой, поджег с уголка бумажку, подержал над пепельницей, откинулся на спинку стула. Пальцы его постукивали по прозрачной папке — что там просвечивали за листки? Теперь я начинал в самом деле бояться дальнейшего разговора.
— Ну вот и хорошо, — сказал он, понизив доверительно голос. — На первый раз, так сказать, для вступления, может, достаточно. Главное, мы, наконец, все-таки встретились. Теперь постараемся вместе. Не все же бормотать самому с собой. Самого себя, глядишь, жалко станет. Побережешься дойти дальше предела. Как бы мозги не перегорели. И есть чего бояться, я понимаю. Не чета нам начинали просить, чтоб пронесло чашу мимо, а? Особенно если вообразить на себе не только свою ношу. Никто ведь ничего заранее наверняка обещать не может, никакая вера от этого страха не избавляет, приходится без гарантий… зато мир, между прочим, держится… Нет, это я, конечно, так болтаю… безотносительно. Просто к тому, что даже в мире, который кажется нам миром собственных мыслей, не все в нашей власти. Почему, думаете, в былые времена художник, приступая к труду, изнурял и очищал себя молитвой, постом, чем угодно? — лишь бы настроить душу и ум должным образом? Потому что подозревал в себе возможности разнообразные, слишком разнообразные… Но мы-то молитвам не научены. Вы моих слов не пугайтесь, я-то как раз намерен вам помочь, и помогу, для того и разыскал вас, для того мы с вами и встретились. Не смущайтесь, не отталкивайте этой помощи. Это в самом деле важно не только для вас… вы даже не представляете. Мне нужно ваше сотрудничество. Почему именно ваше? Но что делать, если на вас что-то сошлось. Пусть вы еще сами не поняли. Или не можете вспомнить. Я вам помогу. Хотите вы или не хотите. Иных вещей о себе лучше до поры не знать. Именно такой мне и нужен. Который знать не знает общих истин и мнений. Который способен изнутри, заново… Не робейте, не запирайтесь, не старайтесь опять увильнуть от себя самого. — Снова приблизил лицо, шепот становился не просто горячим — горячечным. Я не хотел продолжения, знакомая слабость подступала вновь, и теперь хотелось ей поддаться. — Здесь ведь никто не способен понять. Думают меня использовать. Но это еще кто кого…
(Не видеть этих полных, блестящих, словно от жира, губ, не слышать, не вникать в расплывающиеся слова)
— Не для себя же… раз на тебе столько сошлось… Раз уж попался. Не спрашивай почему именно ты. А кто же? При таком-то сходстве… не обязательно знать. Значит, надо. Ради истины. А что есть… как выразился… что выше истины как быть выш… ры как зирылся ерорыч… что… всами… вайте-ка дашу ру-куру болсло… булс рогачий… лоб… поле… так бледенели… в глаза… час… мотрите… будет в рападке…
Не узнавать, не видеть, как искажается зыбью гладкое лицо, перетекает дрожащая капля, внутри плавают перевернутые фигурки, множатся, тают, муха жужжит вокруг. Закрыть глаза, оторваться, понестись вместе с каплей медленно в темноту, с замиранием, в немеряный провал, откуда брызгает в лицо теплая, на слюнях замешанная вода… не хочу… Красное лицо Егорыча расплывается перед полусмеженными еще ресницами.
— Ишь ты какой оказался, — произносит он с интересом, как будто сочувственным. На нем теперь почему-то белый халат. — А этот-то… не ожидал. По виду не скажешь. Верно говорят, свой лучше знает, на какую косточку нажать. Смотри ты! Уж лучше бы по-нашему, по-простому, верно? Вот попался, друг сердечный… Ну да ладно, это еще не страшно… Да ты что, в самом деле?..
Пришлось поставить меня на ноги и подтолкнуть для равновесия в спину. Снова по тому же коридору, теперь уже к выходу, невидимый провожатый сзади. За поворотом быстро скрылась каталка, тело укрыто белым. Та же оранжевая лампочка горит над той же дверью, тот же голос базарной торговки грозится: «Еще не вспомнил, милок? Думаешь, сука долбаная, долго так сможешь в молчанку играть? Вспомнишь. Не сомневайся, у меня все вспоминали».
— На пенсии, а все не угомонится, — сказал за моей спиной провожатый, и я, не глядя, увидел его усмешку. — Надо значит надо. Правильно один ваш писатель сказал: ради правды страдать надо, страдать. Чтобы до самой-то подкожной добраться, до потрохов, до кровавого мяса. Тогда и мозги дойдут до кондиции, правильно я говорю? В чем-в чем, а в этом мы ученые…
Задумчивое движение: ткнулся не туда, без разрешения открыл боковую дверь. За ней оказывается стенной шкаф или чулан без окон. На табурете, судорожно вытянувшись, сидит полуголый человек с пустыми вытаращенными глазами. Белые, как мясные черви, присоски, растут из его черепа, и сам он бледен, как труп. На табурете против него старушка в халате санитарки вяжет чулок, длинный, как выпавшая кишка.
— Куда? Назад! — осадил меня сзади голос — всполошенный, а впрочем, беззлобный и даже как будто довольный. Мы уже приблизились к концу коридора. Мой провожатый забежал вперед, открыл крышку бокового щитка — внутри оказалось два ряда кнопок. Поколдовал над ними быстрыми пальцами — как пианист, или, скорей, фокусник — чтобы я не проследил, какие он нажал цифры на самом деле, какие только для виду, и не узнал секретного кода, позволяющего выйти из этой квартиры… Не оглядываться для прощания, скорей по лестнице вниз…
Я добрался уже почти до первого этажа, когда сверху меня окликнули:
— Эй! Эй! Ишь, быстрый какой! А ну-ка вернись сей момент!
Сердце неприятно екнуло: что-то не так. Не могло обойтись так просто, я чувствовал, меня еще должны были вернуть. Лицо Егорыча смотрело вниз сквозь лестничный пролет.