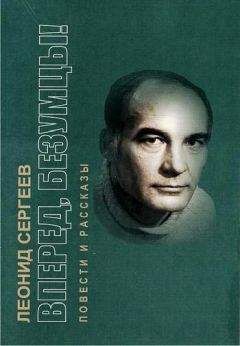Теперь Сосин жил с вымышленными героями. Вернувшись из пивной, разговаривал с ними, случалось и ругал их и выгонял из квартиры. При встрече с реальными друзьями, говорил нервно, беспокойно, то и дело вскидывал дрожащие руки:
— В принципе жизнь — это множество пустяков. А судьба… судьба — это в нужный момент оказаться в нужном месте и раскрыть все, на что способен. Все очень просто, но угадай этот момент, найди это место…
Он падал все ниже; мало работал, влезал в долги; с утра небритый «отмокал» в пивной. Однажды сказал мне со вздохом и определенным умыслом:
— В принципе я потерпел поражение. Я не боюсь смерти, и так достаточно насыщенно пожил. Умру, когда сам захочу. Силой внушения. Когда начнут мучить болезни.
Скорее всего так и произошло, во всяком случае вскоре он исчез и больше никто о нем не слышал.
Было еще два художника, которых признавали единицы (в том числе и я): Вячеслав Пирогов и Александр Костылев, оба интеллигентные, с седыми усами, только Пирогов мясистый, рыхлый, с толстыми губами, а Костылев сухой, с впалыми щеками и узким, плотно сжатым ртом.
По образованию Пирогов был историком; он преподавал в университете, и лекциями об истории России приводил студентов в трепет. А дома Пирогов занимался живописью, писал мифы и «невидимый мир», и так объяснял свое творчество:
— Есть мир видимый — все, что можно охватить взглядом, и есть невидимый — мысли, совесть, Бог, ангелы, нечистая сила… Невидимый мир значит для нас гораздо больше, чем видимый. Я непременно докажу существование нечистой силы.
Эти ясные мысли вызывали огромное любопытство у девушки со странным именем Малина. Любопытство Малины росло с каждым днем, ее глаза так блестели, что Пирогов воспламенился любовью. Эта любовь сжигала его до тех пор, пока он не женился на Малине.
На мой взгляд Малина выглядела женщиной-картинкой, цветочной вазой, неким безликим совершенством, в ней не было изъяна, который придает красоте жизненность. Но Пирогов считал иначе. Обливаясь слезами счастья, он сказал мне:
— В Малине полно скрытых талантов. Они еле вырисовываются, не каждый видит.
— Ну да, как «Титаник» с затонувшими сокровищами, — забавляясь ляпнул я.
— Точно, — кивнул Пирогов. — У нее гаснут нераскрытые способности. И угасли бы совсем, если б она не встретила меня.
После женитьбы Пирогов ушел из университета и полностью посвятил себя живописи.
— Все изменяется, — мужественно заявил он Малине и двум-трем приятелям. — Меняется расположение звезд, континенты. И человек должен менять деятельность и коллектив. Американцы вывели — больше семи лет работать в одном коллективе вредно. Тупеешь и отдача не та. Я решительно все меняю…
Малине не понравились эти мужественные слова, она кокнула об пол фарфоровую чашку и закипела от возмущения:
— Выбрось это из головы? На что мы будем жить, если до сих пор у тебя не купили ни одну картину?! «Невидимый мир» прекрасен, но его надо писать в свободное время! Если ты не вернешься в университет, попадешь в ад.
— Согласен! Меня это устраивает, — нахально заявил Пирогов и его семейная жизнь затрещала по всем швам.
С того дня он безудержно писал картины, а Малина безудержно его ругала и била чашки — воевала ежедневно, без перемирий; казалось, «Титаник» подняли со дна океана и переоборудовали в броненосец.
— Тебе, видимо, нравится звон битой посуды, — ухмылялся Пирогов и тем самым еще больше распалял жену.
Перебив всю посуду, Малина подала на развод. Пирогов, несмотря на крепчайшие внутренние силы, испугался и вернулся в университет, а мне, со вздохом, объяснил:
— Любовь это весы — на одной чаше огонь, на другой лед. Главное в семье проявлять гибкость.
Он продолжал писать картины, но не выставляясь, не имея поддержки, через несколько лет разочаровался в себе и забросил живопись. А жаль! Я думаю — наше Отечество потеряло хорошего художника.
Костылев работал искусствоведом в музее имени Пушкина, а для себя писал старину: «живописные руины» — полуразвалившиеся особняки с железными кружевами решеток, ампирную мебель — и все дотошно выписывал — так, что казалось картины несут запах изображенных предметов.
— Раньше вещи делали искусные добрые мастера, — задумчиво произносил Костылев. — Доброта порождает доброту. Вещь заиграет, если к ней подходить с любовью.
Свои работы он хранил в сундуке и деревянном чемодане, и редко кому показывал — считал «несовершенными». Кстати, на этой почве мы с ним и подружились. Я тоже всегда сомневался в том, что делал; правда, а отличие от Костылева, я показывал некоторые свои работы, но часто за них испытывал стыд, потому что многие мои друзья делали гораздо лучше.
Костылев четко спланировал жизнь: чередовал работу в музее с домашней работой над «стариной», помогал жене вести хозяйство и вообще относился к жене подчеркнуто рыцарски; дочь воспитывал в духе гимназисток, лето с семьей проводил в палатке на Онеге, «уединившись от суеты» на острове с ароматическими травами. Но однажды они приехали на остров, а там все травы вытоптаны и полно мертвых бабочек.
— Плохая примета, — вздохнула жена Костылева, тихая, впечатлительная женщина с ярко-желтыми глазами; она всегда светилась и, казалось, вся сплошь состоит из света.
И в самом деле у Костылева начались разлады с сотрудниками музея; тема «старины» завела в тупик (все же он жил в современном мире и когда пытался уйти из него, все получалось искусственно и нелепо); дочери надоела «гимназия» и она ударилась в «тусовки» и только жена не изменилась.
— На работе следуй заповеди: «Беги от тоски и с глупцами не спорь!» — мягко посоветовала она мужу. — А «старину» временно оставь. По-моему, ты просто исчерпал эту тему. Порисуй что-нибудь другое.
Костылев последовал совету жены — запер сундук и чемодан, но за новые темы, как ни настраивался, так и не принялся. Зато в музее, следуя совету жены, все уладил и защитил диссертацию. Спустя десять лет он стал вполне современным (купил машину и отпуск проводил в Доме отдыха), сундук и чемодан открывал раз в год, просматривал рисунки и усмехался:
— Мои привязанности к старине выглядели какими-то ложными, изношенными.
А между тем в его «старине» была глубина, подлинность, высокая внутренняя культура, старомодная трогательность и прочее, так мне кажется.
Семь лет я работал в «Картинках» — тонул в празднике, но с годами мой юмор стал терять свой накал. Все чаще я ловил себя на том, что в трамваях и автобусах вслушиваюсь в разговоры людей, запоминаю удачные реплики, мучительно пытаюсь выжать из них смешные темы. Это были последние потуги. Вскоре я окончательно утонул в «юмористическом море», то есть мой юмор полностью иссяк. Но удивительное дело — «на дне моря» меня ждал новый праздник, еще более светлый — царство журнала «Мурзилка». Возглавлял это царство Нептун без бороды и трезубца — Анатолий Митяев.
Ни для кого не секрет — то было золотое время, расцвет «Мурзилки». Митяев сам не рисовал, но имел художническую натуру. В высшей степени художническую. Он прекрасно разбирался в живописи и обладал чутьем на потенциальные, неразбуженные таланты, не случайно в «Мурзилке» начинали многие впоследствии известные мастера.
Ко всему, Митяев был обаятельным человеком, от него веяло теплом. Он прошел войну, но сохранил детское восприятие — восторгался простыми вещами и делал постоянные открытия в окружающем мире. Но что особенно важно — открывал в людях то, чего они в себе и не подозревали.
Подмечено, что хорошего человека и окружают хорошие люди. Это наглядно демонстрировали чаепития в редакции, когда вокруг бурно кипящего самовара, еще более бурно кипели дружеские излияния художников.
— Я только и жду наших сборищ, — улыбался Лев Токмаков и прикладывал руку к сердцу, давая понять, что у него внутри немыслимая комбинация чувств.
— Ужасно вас, чертей, люблю, — смеялся Николай Устинов, и всем было ясно, что у него внутри исключительная радость.
Митяев объединил в журнале лучшие силы, открыл то, что находилось за горизонтом детской иллюстрации. К примеру, тот же Токмаков создал совершенно новую изобразительную манеру: малыми средствами, всего двумя-тремя мазками добивался невероятной выразительности и точности. Всего два-три мазка на белом листе бумаги, но какое организованное пространство, какая легкость во всем, какие живые линии и как на месте безошибочно лежат! Ничего не хочется добавить и ничего нельзя убрать — что значит настоящее мастерство! Настоящее мастерство — когда в работе ничего нет лишнего, случайного. На взгляд оно удивительно просто; кажется — возьми кисть и у тебя получится так же. Но это только на поверхностный взгляд. Иногда, для того, чтобы сделать эти два-три мазка художнику требуется вся жизнь. А легкость, понятно, достигается кропотливым трудом.