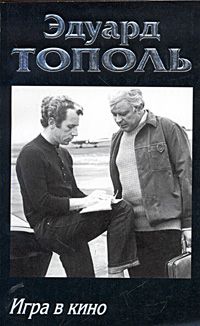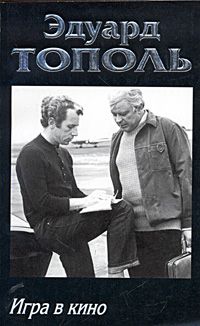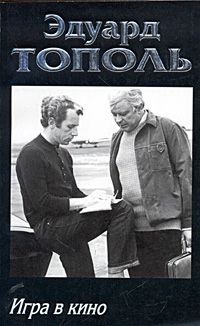Ф. ГУКАСЯН: Художественный совет принимает решение: принять картину на двух пленках и после поправок вновь вынести на обсуждение художественного совета. Нет возражений? Нет. Принимается.
Члены худсовета шумно встали, окружили Резо Эсадзе, оператора и художника картины, поздравляя их с замечательным фильмом, обещая фильму успех и фестивальные призы.
В мою сторону никто не смотрел, и если проходили мимо меня, то обходили стороной, как прокаженного. Затем Фрижетта Гукасян, встав из-за стола, сказала негромко:
— Эдуард, пойдемте со мной.
Она привела меня в свой кабинет, плотно закрыла за нами дверь и даже заперла ее на ключ. Только после этого сказала:
— Эдуард, скажите мне честно, вы уезжаете в Израиль?
— Куда? — изумился я.
— Вы собираетесь эмигрировать?
— Нет. С чего вы взяли?
— Это честно?
— Честно!
— Тогда зачем вы это делаете? Ведь Резо снял замечательную картину! А если вы уберете свою фамилию, это будет скандал — вы поставите весь фильм под удар. Я вас прошу: откажитесь от этой идеи.
Что я мог ей сказать? Что я поступил во ВГИК в 1960 году и пятнадцать лет шел к этому дню — недоедал, жил на московских вокзалах, на раскладушках и на полу у каких-то полузнакомых людей, бросал любимых женщин, скрывался от милиции и на последние гроши, которыми одарили меня Миронеры, писал — под истошные крики соседок-лесбиянок — свой лучший сценарий — для чего? Для того только, чтобы очередной режиссер вдохновенно отбил на нем чечетку, каждым ударом своего гениального каблука отшвыривая, выбрасывая из сценария все самое в нем ценное, дорогое, выстраданное моей сестрой и выписанное мной в те душные московские ночи?
Нет, я не смог ей и того сказать — у меня уже не было на то ни желания, ни сил. Наверное, так чувствуют себя женщины после аборта — безразлично ко всему, что им говорят, о чем спрашивают. «Любовь с первого взгляда» обернулась для меня четвертым киноабортом — или выкидышем, назовите это как хотите.
Но каким-то последним, резервным здравым смыслом я понимал, что этот мой жест — неведомый советскому кинематографу с тридцатых годов, когда Ильф и Петров сняли свои имена с титров фильма «Цирк», — поставит под удар не только Эсадзе и всю его группу, но и Фрижу, и все руководство Первого объединения «Ленфильма». Потому что при всех комплиментах, которые наговорили тут этому фильму, все, включая Гукасян, хорошо понимали: именно необычность, яркость, дерзость эдакой параджановски-просветленной стилистики этого фильма может вызвать гнев руководства Госкино СССР. Но если стилистика — дело вкуса, если с ней трудно спорить и не так просто придраться (особенно когда маститые киномастера «Ленфильма» примутся утверждать, что яркая многоцветность фильма «помогает утверждению удивительного сплава интернационализма советских людей» — о! в такой демагогии мы тогда здорово поднаторели!), то афронт сценариста, снявшего с титров свое имя, — это простой и удобный предлог для любых репрессивных акций и против фильма, и против студии. В конце концов Госкино дало «Ленфильму» деньги на съемки моего сценария, а не на съемки вдохновенных импровизаций режиссера и его команды по поводу их собственных первых любовей — так куда же смотрело руководство студии во время съемочного периода?
Да, в этом тоже была тогда какая-то мерзостность нашей всеобщей игры в кино: нельзя было «подставлять» талантливых людей, даже если они делали ахинею, считалось непорядочным критиковать их работу, поскольку власти могли воспользоваться этой критикой и наказать порядочных людей.
Я взял со стола Гукасян чистый лист бумаги и написал:
Главному редактору Первого творческого объединения «Ленфильма»
ГУКАСЯН Ф.Г.
Прошу в титрах фильма «Любовь с первого взгляда» заменить мою фамилию на «Белла Абрамова».
— Кто это — Белла Абрамова? — удивилась Гукасян.
— Моя сестра. В этом фильме — ее история, пусть она и значится автором. Ведь Госкино все равно, какая фамилия в титрах, лишь бы был автор, не так ли?
Фильм «Любовь с первого взгляда» лег на полку, то есть был запрещен Государственным комитетом СССР по кинематографии не потому, что автор заменил в титрах свою фамилию, и не потому, что Резо снял лишь первую половину сценария, размешав его драматургической отсебятиной. Фильм лег на полку и пролежал на ней пять лет потому, что, играя в кино, все — и правые, и левые, — нарушали тогда правила честной игры. Пытаясь уберечь картину от критики начальства, все на студии так усердно захваливали ее, так были счастливы тем, что «Эсадзе есть на „Ленфильме“», что Резо и вправду уверился в своей гениальности и нетленности каждого — буквально каждого — кадра этой картины. И когда в Госкино велели сократить фильм на 19 метров (в фильме есть эпизод обсуждения всеми обитателями кавказского двора, как нужно резать барана, и в этом эпизоде появлялся русский, в военном френче персонаж, он вынимал из кармана бумажку и принимался читать доклад о том, как резать барана, эта сценка вызвала бешенство руководства Госкино, они назвали ее издевательством над русским народом), — так вот, когда Госкино приказало вырезать эти 19 метров, Резо гордо ответил «нет!». Между тем не по форме, но по сути начальство было в этом случае право: эта сценка была плохо, неграмотно сделана драматургически, она выпирала из реалистической стилистики поведения остальных обитателей этого двора, она вылезала в пародию, потому что докладов о том, как резать баранов, конечно, не бывает, но бывают — инструкции по забою скота! Маленькая, ничтожная, казалось бы, фальшь превратилась в пережим, раздражала, «портила песню».
Но Резо отказался вырезать эти 19 метров и — о, святая простота коммунистических кинопродюсеров! — никто не решился сделать это за режиссера, никто не посягнул на его произведение! «Нет?» — и всю картину, которая обошлась в 400 тысяч рублей, отправили на полку, то есть не приняли у студии.
И в киношных кругах Резо сразу прославился — ведь его картину запретили! Не прошло и трех месяцев, как он стал гордостью грузинского кинематографа, и студия «Грузия-фильм» выкупила у «Ленфильма» эту картину якобы для поправок и переделок, а на самом деле для своего, внутригрузинского проката. Всем, кто приезжал тогда, в 1975 году, в Грузию, этот фильм показывали как выдающееся достижение грузинского национального кино. Но что же так восхищало в этом фильме грузин? Неужели я, автор сценария, не понял свою собственную картину, не оценил шедевр?
Разгадка в ином. Дело в том, что все сыгранные грузинскими актерами бакинские эпизоды и персонажи воспринимались в Грузии как насмешка над их азербайджанскими соседями. И Резо Эсадзе, осмелившийся сделать такую картину про азербайджанцев, немедленно стал национальным героем Грузии.
Отблески этой славы достали и меня. Гейдар Алиев, бывший в то время отнюдь не демократом, а первым секретарем ЦК КП Азербайджана, прослышав об этом «издевательском» фильме, затребовал его из Тбилиси и после просмотра в гневе запретил не только показывать эту картину в Азербайджане, но и пускать в республику ее авторов! Что, конечно, и меня сделало в киношных кругах «опальным» драматургом, не только проживающим в Москве нелегально, но и без права возвращения по месту прописки — в дедушкину квартиру в Баку.
Но мне уже и эта слава была, как говорится, до лампочки. Я заматерел в цинизме. Да и как иначе? После четырех абортов даже Джульетта утратила бы свой романтизм. Правда, память о своей Любви с первого взгляда проносят через жизнь и падшие женщины. Наверное, потому я не мог, не хотел смириться с режиссерским хамством, с их уверенностью в том, что «если я взял сценарий, я считаю, что он мой». Вранье! Не было в фильме Эсадзе никакой режиссерской «интерпретации», переосмысления драматургии, художественного перевоплощения сценария в киноленту! А была элементарная профессиональная самодеятельность, помноженная на головокружение от творческого зазнайства и стремление переплюнуть Феллини. Да, в те годы очень многие «косили» под Феллини и Антониони или — на худой конец — под Тарковского. Они хотели снимать шедевры а-ля по наитию, под «Восемь с половиной» и под «Амаркорд». Забывая, что Феллини-то именно сценариями зарабатывал себе поначалу на жизнь. И уж свои-то фильмы он никогда не снимал без сценария! Просто та драматургия, которую выстраивали себе Феллини или Антониони, была не по плечу остальным гениям в коротких вгиковских штанишках.
Короче, я ужасно жалел, что, как красна девица, купился на рыцарски-кавказский жест упавшего на колени режиссера, и… через год написал по своему сценарию пьесу. Не буду описывать ее хождения по театрам — там, оказывается, главрежи в еще большей степени гении и принцы, чем режиссеры кино. Как заметил однажды Вампилов, в театр нужно приходить либо классиком, либо покойником. А если вы живой, да еще с первой пьесой, то, ухватив вашу пьесу, и главреж, и его жена — прима театра, и завлит, и еще хрен знает кто начинают душить вас в объятиях, уговаривая и заставляя переделывать и перелицовывать пьесу «под нашу сцену», «под наших актеров», «под наше видение» и «под возраст нашей ведущей звезды». При этом, конечно, вас всюду водят как новую надежду театральной драматургии, величают «нашим новым открытием» и т. д. и т. п., но все это только ради того, чтобы вы от них никуда не делись, а легли у подмостков их пыльной сцены и поставили свою пьесу пред ними в ту позу, которая ими наиболее любима для Любви с первого взгляда.