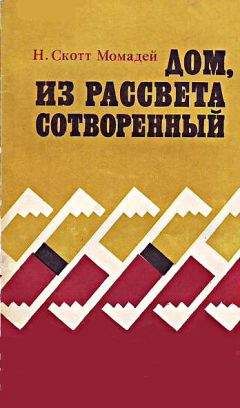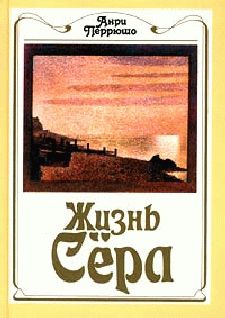В эту пору года льют дожди. Оно-то не беда, польет и перестанет, и все тогда умытое и яркое. Тут жить неплохо. Полно движения, событий, есть что делать и на что глядеть, надо только суметь вжиться. А когда вжился, попривык, то уже чудно и вспоминать, как раньше жил в своей глуши. Там ведь ничего нет, одна земля, пустая и мертвая земля. А здесь все, все, чего только мог хотеть. И всегда в компании быть можно. Пойдешь в город, там людно, и весело им. Посмотришь, как у них — успехи в жизни, деньги есть, хорошие вещи, приемники, машины, одежа, дома просторные. И хочешь, чтоб и у тебя так было; сумасшедшим надо быть, чтоб не хотеть. И можно иметь это, запросто можно. В магазины пойдешь, там полно ярких, новых вещей, купить можно почти все, что хочешь. Люди приветливы почти сплошь, пособить тебе готовы. Пусть даже не знают тебя, а все равно приветливы; прямо стараются приятность сделать. Руку пожимают, со вниманием относятся; иногда затрудняешься, не знаешь, как поступить, и они стараются, чтоб тебе легче. Вроде хотят, чтоб и ты успел в жизни, вроде и о тебе пекутся. В отделе релокации тоже неплохой народ. Неправ Тосама насчет них. Ты новоприбывший, тебе боязно — и они понимают, заботятся. Платят за тебя; работу достают тебе, жилье; даже, верно, и больного тебя не бросят. Живи и не тужи.
«Да-да, братец Беналли, живи и не тужи». Это слова Тосамы. Он вечно костит релокацию и терминацию и бытоустройство [Имеется в виду Терминационный акт (1953 г.) об окончании опеки федерального правительства над индейскими племенами], а толстенький Крус тут как тут позади него — улыбается и кивает, будто тоже все насквозь видит. Я, бывало, слушал Тосаму охотно. Тосама — шут, умеет рассмешить. Но с ним держать надо ухо востро, а то и не заметишь, как дураком окажешься. Он любит подтрунить, понасмехаться.
Погоди… дай вспомню; Богатый Козами вернул мне три доллара, и я взял бутылку вина. А кто все же эта грудастая девушка с ним. Теперь у меня два доллара одиннадцать центов. Жаль, кончилось уже вино. Еще надо бы взять одну… и доллар… две серебряных монетки… и два цента.
Эи-еи! Какое имя славное, и монеты… монеты у нее на мокасинах.
Из Оклахомы, она, по-моему.
Генри, бумажку долларовую и центы оставь себе. А дай мне двенадцать десятицентовых. В память старых времен, Генри, дай мне двенадцать блестящих монет. Монет и нет, виной вино.
Хоть бы дождь перестал.
Работу он не искал больше. А чудно, как быстро все случилось. У нас с ним стычка вышла. С ним нельзя уж было говорить. Всегда пьяный. Раньше мы вместе выпивали, и было все в порядке, потому что от вина мы отмякали, веселели — и шутим, забываем обо всем. Но с того вечера, когда Мартинес… а может, еще до Мартинеса, не знаю. Может, и Тосама тут внес свою долю, и та белая женщина — все вместе. Но веселье кончилось. От вина он уже не менялся, выпьет и по-прежнему сидит понурясь, точно все ему ненавистно, и сам себе ненавистен, и пить противно, и нас с Милли видеть тошно. И говорить с ним нельзя, скажешь ему что-нибудь — он только злится. А так дальше нельзя ж было. Я видел, что если дальше так, то кончится большой бедой, а ничего не мог сделать. Ему помочь хотят, а он не дает — и я, видно, тоже озлился, и у нас вышла стычка. Он в тот день напился в дым, до безобразия. Весь облевался, не соображает уже, видно, — сидит и ругается погаными словами, опять и опять. А я поганой ругани боюсь, слушать ее не могу. Перестань, говорю ему. И не так злость меня взяла, как перед мерзкими словами страх какой-то. Терпение, во всяком случае, кончилось. Устал я вечно о нем тревожиться, а дело все скверней, идет к беде, и не хочу я брать в том участия. А он не унимает своей ругани, еще злей рычит мне в лицо, и невтерпеж мне стало, велел ему уходить. Он поднялся шатаясь, весь красный, в поту, в лихорадке, вид дикий, — но я озлился, уж на это не смотрю. Так, говорит, ладно, к чертовой матери тебя, говорит, ухожу. Иду искать змею-кулебру, говорит, иду расплатиться с кулеброй. Давай, говорю, иди, мне плевать. Ушел, хлопнул дверью, а я рад; лестницей прогромыхал, чуть не упал и не расшибся, а мне все равно.
Поостыл я, и тут же стало жаль, затревожился о нем. Однако, думаю, что толку. Дальше так нельзя; конец какой-то должен быть. Но он не возвращается, и я тревожусь. Жду, жду, пора уже поздняя. Лег, и не спится. Все прислушиваюсь, не идет ли. Говорю себе, что, может, прогулка ему на пользу. Он пьян, нездоров, далеко не уйдет. Может, его подняли, задержали и, что болен, увидели, врача к нему позвали. Той ночью он так и не вернулся, а утром на работу мне — и я рад был работе. Протрудился весь день на конвейере — и вроде все в порядке сделалось. Вроде приду домой, а он уже вернулся, и мы помиримся.
Трое суток его не было. Каждый день спешу домой прямо с работы, а его нету. Ищу у Генри и везде, вдоль и поперек все обхожу — нигде его не видали. И в тюрьме нет. Я не знал, что и делать. А на третью ночь просыпаюсь от шума какого-то снизу, с лестницы. Вышел, включил свет в верхнем коридоре и вижу — он внизу у лестницы лежит, как мертвый. У Карлозини дверь приоткрыта, старуха глядит в щель. Свет из щели упал на него полосой, он лежит скорченный и неподвижный. А он это, он, без сомнения. Я подумал, он умер, и что делать, не знаю. Сбежал вниз, совсем растерялся, забыл, что лампочка там перегорела, щелкаю выключателем. Крикнул старухе, чтоб растворила дверь, а она стоит — я оттолкнул ее с дороги. Сильно толкнул, она, может, упала, не знаю, но дверь распахнул, светлее стало. Он лежит ничком, я перевернул его — и к горлу подкатило. Он весь покорежен, изранен, в крови засохшей. Запеклась в волосах, на одеже. Он страшно много крови потерял, кожа бледно-желтая при свете. Глаза полностью запухли, нос сломан, губы разбиты, кровоточат. И руки сломаны, покорежены совсем. Голову и руки вижу, а какие на теле раны, не знаю — и не могу одежи коснуться. Глядеть не могу. Чтоб так избили, я еще не видел. Хотел наверх его взять, а он не встает, и подымать страшно. Принес одеяло, прикрыл его, вышел, «скорую помощь» вызвал. Спустя малое время приехали, положили его на носилки. Он лежит и голосу не подает, и мне сказали, чтоб я ехал с ними.
Остаток ночи я в больнице прождал. Врачи, сестры ходят мимо торопливо, а мне ничего не говорят, и я подумал, может, он умер или умирает, а я сижу внизу, не знаю, где он и что с ним теперь. Потом развиднелось за окнами, и подошла ко мне сестра, стала вопросы задавать. Глупые вопросы — про семью, и чем болел, и застрахован ли он, и всякое такое. Я мало на что смог ответить, и все прошу ее сказать мне, как он там. А она знай сыплет вопросы, как будто это важней всего, и притом так смотрит, будто я не говорю ей правды. Им сообщить в полицию придется, говорит, и надо знать в точности, что произошло. И есть ли у него родня, чтоб вызвать их сейчас же. И говорит наконец, что он без сознания, и врач еще не знает, поднимется ли он. Увидеть мне его нескоро можно будет. А я буду ждать, говорю.
Она, видно, поняла, что я крепко за него тревожусь, и после принесла мне чашку кофе. Я вспомнил про работу и позвонил туда, сказал Даниэлсу, что болен. Ладно, говорит.
Я ждал весь день. Под вечер провели меня к нему наверх. Темно там, и он на спине лежит, спит. Они его в вид привели — голова, грудь, руки оббинтованы. Сказали, что, если хочу, могу посидеть у кровати. Все, что могли, они сделали, надо думать, и вроде беду отодвинули. Сестра — то одна, то другая — наведывалась, смотрела на него. Он не просыпался, и потом мне сказали, что пора уходить.
Вечером я позвонил той белой женщине; не знаю почему, но решил, что надо позвонить. Чтоб Милли знала о беде, я не хотел, а больше сказать было некому. Я, должно быть, говорил по телефону путано. Она сперва не поняла, о чем я, и все спрашивала, кто я и зачем звоню. Извините, говорю, что беспокою, но с ним худо и не знаю, что больше делать. Она помолчала минуту, подумала вроде, сказала «спасибо» и повесила трубку. А через день приехала в больницу.
Я как раз сидел там с ним. Он не спал, смотрел одним глазом, но лицо забинтовано, и говорить ему было трудно. Я утешал, говорил, что все будет хорошо: тогда-то и насчет нашей встречи придумал. И тут она входит, я ее сразу узнал. Нарядная, красивая, духами пахнет. Мне сидеть с ними не очень ловко вроде, я встал, чтоб уйти. Но она удержала меня: «Что вы, сидите, прошу вас», подошла, руку мне пожала и опять сказала «спасибо». То, что я тут, ей вроде совсем не мешало, она заговорила с ним. Сказала, что огорчена и что уверена, он скоро выздоровеет. Быстро так говорит — знает, видно, что сказать. Мне сидеть третьим неудобно вроде, но ей, видно, я не мешал, и она стала ему рассказывать про своего сынишку Питера. Он уже большой, сказала, и она хотела его привести, да только он занят с друзьями своими. Сказала, что часто думала о нем, гадала, где он, как он; что всегда будет считать его своим добрым другом. Питер любит слушать про индейцев, и она ему рассказывает об индейском юноше, сыне медведя и девушки, воине доблестном и мудром. Как после многих приключений он стал вождем, спасителем своего народа. Питер слушает это охотней всего, а она, когда рассказывает, думает о нем, об Авеле. Она это хорошо так сказала — вроде уважает его крепко, — и я почувствовал, что она тайное свое и важное раскрывает, и неловко мне было сидеть и слушать. Она страшно рада, сказала, что я позвонил, потому что уж очень хотела с ним увидеться опять. Я рад был, что она пришла в больницу, и он, верно, тоже, хотя ничего о том после не сказал. О чем-то задумался молча. Повернул голову к стене, как если бы опять боль воротилась.