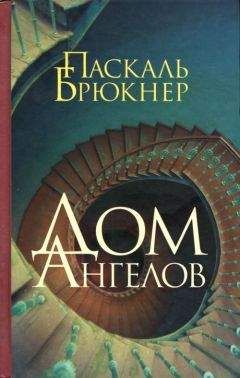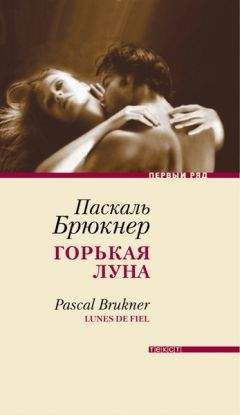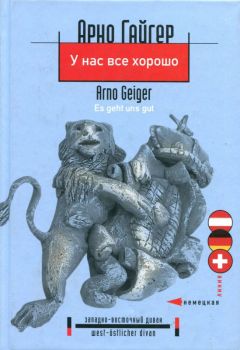И вот однажды утром он оказался со своими скудными пожитками на парижской мостовой у Северного вокзала. Присев на дорожный столбик, он обхватил голову руками. Было начало июля, первая жара. Он вспомнил, как возле парка Монсо два с лишним года назад поджидал клиентов, вспомнил так некстати появившийся пьяный тандем. С того момента все и пошло кувырком. Нет, он никогда никого не убьет, разве что случайно. Он хотел очистить мир, а грязь засосала его. Мы однажды перестаем ненавидеть, не из великодушия, но по лени, потому что ненависть поглощает слишком много энергии. Мы прощаем, чтобы задуматься о другом. Пока он тер пальцами виски, прогоняя головную боль, какой-то молодой парень, рыжий, кудрявый, с круглыми розовыми щеками, положил на его сумку монету в два евро, пробормотав что-то по-английски. Он обернулся к группе туристов обеспеченного вида — отец, мать, две девочки и собака в окружении элегантных чемоданов, — и крикнул в их сторону:
— Is that ок, Daddy?[17]
Ответа Антонен не расслышал, но паренек в бермудах встал рядом с ним и с извиняющейся улыбкой проговорил:
— Just опе photo, please…[18]
Он дождался, пока отец настроил объектив:
— That is fine, Joey, we have y ou with a typical french clochaarde...[19]
— Спасибо, мосье, — сказал парень и вприпрыжку убежал к своей семье, которая уже садилась в такси.
Антонен посмотрел на монетку и, поколебавшись, сунул ее в карман. Тоже деньги. Он убедился, что его бумажник на месте, и тут группа из трех подростков в рваных свитерах с бандитскими физиономиями и сильным восточным акцентом приказала ему убираться:
— Ты, не тор-р-рчи здесь, это наша тер-р-ритор-р-рия.
Они показывали пальцем на компанию человек из десяти, то ли болгар, то ли албанцев, то ли русских, молодых и крепких, которые готовы были прийти на подмогу, если он ослушается. Самый младший, лет двенадцати, не больше, и самый агрессивный схватил сумку Антонена и с воплем отшвырнул ее подальше. В прошлой жизни он бы выдал им по первое число. Теперь же молча покорился: улицы поделены, места забиты. Приходилось уважать законы городских племен.
Он сдал свои вещи в ломбард, в том числе часы и смартфон, остатки былой роскоши, и со скромной суммой денег, с вещевым мешком на плече отправился к Сене осваивать свой новый дом — улицу. Каждый день ему приходилось решать проблемы, чтобы просто выжить: найти, где поспать, что поесть, где уединиться, чтобы справить свои надобности. Он ночевал в чахлых скверах, в канализационных трубах, на пустырях, постелью ему служили картонки. Питался он плохо и нерегулярно, страдал головокружениями, тротуар колыхался под ним, дома сжимались, точно складки аккордеона. Его мучили одновременно голод и тошнота: стоило ему съесть яблоко или бриошь, как его выворачивало. Он страдал морской болезнью, хотя не был подвержен бичу уличного сброда — пьянству. Антонен был своеобразным антропологическим исключением: трезвый клошар. Он пребывал в прострации, поглощенный своими повседневными заботами, утрачивал мало-помалу чувство времени, изъяснялся нечленораздельным брюзжанием. Он чувствовал, что слился с асфальтом, который стал его второй кожей, врос в тротуар, впечатался как след. Его подкашивали приступы неодолимой усталости, но спать он боялся, чтобы не обобрали. В замкнутом кругу бесплатных столовых и ночлежек он делил ночи с лунатиками, с безумцами, которые бродили голые или в одних трусах, согнувшись пополам, и подолгу смотрели на него, не говоря ни слова. В ночлежках обычным делом были изнасилования. Но его защищала от нападений надежная броня: от него воняло. Зловоние стало для него лучшим щитом. Очень скоро у него завелись паразиты — клопы, блохи, вши. Забывая о дезинфекции, он чесался как одержимый. Однажды он решил поставить перед собой стаканчик с картонкой, на которой было написано: «Спасибо за ваше доброе сердце». Он слушал в метро, как теноры от нищеты с сокрушенной миной исполняют свою вечную песню. Язык у них был плохо подвешен, всегда один и тот же сценарий, чтобы разжалобить простаков. Кто говорил слишком тихо, кто надсаживался. Конкуренция других таких же бедолаг уменьшала выручку каждою. Антонен не мог заставить себя обращаться к пассажирам в вагоне метро, он не мог похвастаться красноречием нищеты. Он стал членом Профсоюза попрошаек, побирушек, собирателей окурков и Протянутых рук. Влился в войско доблестных паладинов, занятых делом чрезвычайно серьезным — саморазрушением. Он больше не видел лиц людей, только подвижный лес ног, брюк, туфелек. Да он и сам стал прозрачным: человек, севший на тротуар, теряет лицо, исчезает с коллективного экрана.
Подавали ему немного. Дамы бросали мелкие монетки, шепча: «Мужайся!» Мальчишки пинали его блюдце ногами. Каждому прохожему, потрясенно смотревшему на него, ему хотелось сказать: «Всего несколько недель назад я был чистым и обеспеченным. Я был таким, как вы. А вы можете стать таким, как я».
Хорошо одетый человек, к которому он протянул руку, остановился и уставился ему прямо в глаза.
— И не стыдно тебе побираться — молодой, здоровый? Вставай и иди работать!
Мало того, он сгреб его за шиворот:
— Убирайся, бездельник, чтоб я тебя больше не видел!
Слова, которые когда-то произнес он сам, в устах другого человека ошеломили его. Зло, которое он мечтал совершить, вернулось к нему бумерангом. Он был согласен на всё: забей его кто-нибудь камнями, он бы и глазом не моргнул. Парадоксально, но унижение, презрение рождало в нем своеобразную гордость. Он научился выживать на два-три евро в день: полбатона, чашечка черного кофе, а остальное находил в мусорных ящиках, воровал в лавках, таскал со столиков кафе. Он допивал воду из стаканов, доедал объедки с тарелок, пока официанты не прогоняли его взашей. Обслуживать его отказывались, даже когда ему было чем заплатить: от него слишком плохо пахло. Он оброс стандартным арсеналом бродяги: тележка из супермаркета, полная хлама; рваный спальник, свернутый тюфяк, скомканное тряпье, пластиковые бутылки. Ничего не имея, он хранил все, даже пустые банки из-под содовой. Порой он сходился с такими же обездоленными, как он сам, болтунами, выпивохами, неисправимыми раздолбаями. Они читали ему вслух газеты годичной давности, с особенным вниманием прогноз погоды. Однажды он неделю делил скамейку в XII округе с малийцем, который слушал на своем транзисторе только классическую музыку и бормотал:
— Я очень богатый, я миллионел. Я умею ласполядиться капиталом. Вы, фланцузы, челесчул ленивые, нефиг мне тут делать. Извиняйте, забилаю мои капиталы…
Прежде общество неудачников пугало его, он боялся заразиться. Теперь они его успокаивали: есть те, кто пал еще ниже. Эти изгои были когда-то детьми, полными надежд, они могли бы стать адвокатами, инженерами, талантливыми музыкантами. А теперь они шатались причудливыми когортами по нашим улицам, медленно разлагаясь в городской вони.
Однажды на станции метро «Шанз-Элизе-Клемансо», битком набитой туристами, он мельком увидел со спины маленькую девочку с длинной косой, пристроившуюся сзади к японцам, чтобы вытащить бумажник. Он узнал ее по грациозному изгибу руки, змеиным движением вползающей в сумку и извлекающей банкноты, как срывают цветок. Это была она, его маленькая принцесса, с ее неровными зубками, невероятной ловкостью и живыми глазами. Она, его куколка, работала в поте лица, и он, умилившись, взмолился про себя, чтобы японцы безропотно дали себя обчистить. Эта девочка пробудила в нем ностальгию по недавнему прошлому. Он окликнул ее: «Мария Каллас, Мария Каллас!» Она нерешительно обернулась, у нее было столько кличек, как знать, ее ли зовут. Когда же она узнала его, ее лицо исказилось страхом, и она, подпрыгнув, как мячик, пустилась наутек. Он побежал за ней, но она была проворнее и оставила его позади в переходах метро. Он вышел к Большому дворцу, искал ее у очередей на выставки, под деревьями и на аллеях. Он не мог поверить, что она убежала от него. На ее глазах он вздул двух идиотов и отныне был связан для нее только с этим эпизодом насилия. Ищи-свищи ее теперь. Он так хотел убедить ее, что изменился. Он любил ее как собственную дочь, спас от расправы и не мог смириться, что его любовь не взаимна.
На следующий день он решил покинуть уличный ад и провести остаток лета с Фредериком под автострадой. Была, несмотря ни на что, какая-то буколическая нотка в этом жилище на границе города, там росла травка, бегали вокруг удравшие из аэропорта Руасси кролики, глаз мог отдохнуть на зелени, да и до Венсенского леса рукой подать. Фредо — жалкий тип, но не более, чем он сам; объединив свои невзгоды, они скрасят одиночество. Он наведет порядок в его бивуаке, наладит быт, научит его начаткам кулинарии. Он поможет ему и тем спасется сам. Вместе они выберутся из нищеты и через год-другой отпразднуют воскресение! Поход занял у него целый день, потому что путешествовал он, как некогда праздные короли, со всем домом, а у переполненной тележки вдобавок сломалось колесо. У него ничего не было, но и это ничего весило слишком много, и приходилось влачить его, как тяжкое бремя. Когда идешь пешком, Париж, при его длине едва ли в двенадцать километров, становится лабиринтом, каждая улица уходит на века в глубину, расстояния измеряются не в километрах, а во времени. Антонен останавливался каждый час, так он был слаб. Он не ел ничего существенного уже два дня. У лужайки Рейи, полной выехавшей на пикник публики и окруженной деревьями, дышалось легче. Близость леса вносила свежий сельский тон в засилье бетона и каменных фасадов. На деревьях заливались птицы.