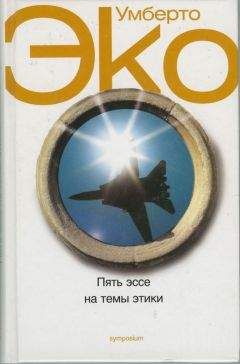Это было про мою жизнь — начав с хрупкой рукописи, добраться до сокровища капитана Флинта! В конце романа мне захотелось сходить за бутылкой граппы, которую я высмотрел за створками буфета Амалии, и запивать пиратские приключения горячими глотками. Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома.
После «Острова» я откопал «Историю Пиппати, родился старцем, умер дитятей» Джулио Гранелли. Точно в том виде, как она прорисовалась в моей памяти несколько дней назад, но вдобавок в книжке рассказывалось еще о неостывшей курительной трубке, забытой на столе подле глиняной статуэтки старичка, и как трубка передала живительное тепло мертвой материи, отчего старичок ожил. Старый юноша, одна из любимых тем Античности. В конце рассказа Пиппати уготована «внезапная смерть новорожденного», и феи возносят его на небеса. Нет, я помнил все это иначе, и у меня было лучше. Пиппати рождался стариком в одном кочане капусты и умирал младенцем в другом кочане. Путь Пиппати «в сторону» собственного детства был как мой. Что ж, восхождение к мигу рождения таит эту опасность — не раствориться бы в Ничем (или во Всем), как Пиппати.
Вечером звонила Паола, где я, что я, почему не даю о себе знать. Да все работа, понимаешь, дорогая. Не волнуйся ты об этом давлении, все нормально.
На седьмой день я опять с головой ушел в шкаф, там был полный Сальгари[210] с цветочными виньетками, меж листьев и стеблей возвышался Черный Корсар, волосы как смоль, ярко-красный рот четко выписан на его печальном лике; роман «Два тигра» о Сандокане: гордый абрис властителя Малайских островов, тело гигантской кошки, рядом томная Сурама и лодки праос из «Пиратов Малайзии». Дедушка собирал все издания — испанские, французские, немецкие.
Трудно сказать, припомнилось ли мне, или уже и так было заложено в мою бумажную память, — ведь Сальгари не забыт до сих пор, и ученые критики время от времени посвящают ему громадные статьи, полные наивной тоски по детству. Мои внуки тоже кричат «Сандокан, Сандокан», кажется, они узнали о Сандокане из телевизора. Я мог бы написать энциклопедическую статью о Сальгари без всякого приезда в Солару.
Разумеется, я поглощал эти книги, когда был маленьким, и все же так свою личную память не наладишь — если путаешь личное с общественным. Книги, которые больше всего дали мне в человеческом отношении — те же самые, которые утвердились и в моем взрослом, уже внеличном, общественном бытии.
Примечание к рисунку[211]
По велению того же инстинкта большую часть книг Сальгари я таскал для перечитывания в виноградник (остальные я сложил в спальне и не отрывался от этих книг даже ночью). Среди виноградных лоз стояла жаркая духота, то есть атмосфера тех пустынь, прерий и объятой пламенем сельвы, о которых я читал, дух тропических морей, которые бороздили каботажными судами ловцы трепангов. Среди виноградных лоз, под редкой тенью деревьев, окруживших виноградник, отирая пот, я прислонялся к баобабу, к колоссальному помбо, из тех, что окружали хижину Джиро-Батола, к манговому дереву, пальмы одаривали меня кочанами пальмовой капусты, мякоть их листьев мучниста, а вкус напоминает миндаль, я сидел под священным баньяном черных джунглей и вслушивался в музыку рамзинги и ожидал, что в кустах, того гляди, закопошится жирная бабирусса, которую можно будет испечь на вертеле над костром, вкопав по его сторонам крепкие коряги. Я подумал, вот бы однажды Амалия приготовила мне к ужину блачанг, который считается у малайцев самым утонченным блюдом! Он состоит из рачков и маленьких рыбок, зажаренных вместе, подгнивших на солнце и потом засоленных, зловоние, которое исходит от этого блюда, по свидетельству Сальгари, неописуемо. Тем не менее малайцы так охочи до него, что предпочитают его курятине и ребрышкам молодого барана.
Ну как это должно быть здорово. Может быть, именно из-за этих чтений я, как говорит Паола, люблю китайскую кухню, в особенности плавники акулы, ласточкины гнезда (с гуано, естественно) и морские уши, причем чем вонючей эти моллюски, тем я счастливей.
И не в одном блачанге штука, а вообще — как могли юные итальянцы, единые во всем мире, читать Сальгари, ведь его герои были дикари и разбойники? Нам полагалось ненавидеть не только англичан, но еще и испанцев (о, как я ненавидел маркиза Монтелимара![212]). Но если три корсара (Красный, Черный и Зеленый)[213] были итальянцами, графами Вентимилья, то другие-то герои звались Кармо,[214] ван Штиллер[215] или Янес де Гомера.[216] К португальцам полагалось относиться хорошо, потому что они немножко фашисты. А разве испанцы не фашисты? Мое сердце билось в унисон с сердцем отважного Самбильонга,[217] стрелявшего картечью из пушки мирим, и мне было безразлично, какой из Зондских островов был его родиной. Каммамури и Суйод-хан, хороший герой и плохой герой, а при этом оба — индийцы… Сальгари сильно нарушал системность моих ранних культурно-антропологических представлений.
На дне того же шкафа я нашел кучу журналов и книжек по-английски. Выпуски журнала «Стрэнд» со всеми приключениями Шерлока Холмса. В то время я английского не знал (Паола говорила, что я выучился английскому во взрослом состоянии), но, по счастью, там и переводных изданий было достаточно. Хотя большая часть итальянских переводов Холмса печаталась без иллюстраций. Так что я, надо думать, читал приключения по-итальянски а потом лазил по «Стрэндам» и находил картинки к прочитанному.
Примечание к рисунку[218]
Переволок всего Холмса в дедушкин склеп. Здешняя обстановка более соответствовала: цивильная атмосфера, приблизительно та же самая, что витала у камина на Бейкер-стрит, где тонные господа вели неспешные разговоры. Что не в малой степени контрастировало с сырыми подвалами и зловещими клоаками, по которым шныряют герои французских романов-фельетонов. Нет, в «Стрэнде» даже и в тех немногочисленных случаях, когда Шерлока Холмса изображали с пистолетом, нацеленным на противника, он всегда рисовался напружинив правую ногу, выставив вперед правую руку, почти что в статуарной позе, с достоинством и апломбом истинного джентльмена.
Меня будоражила эта масса Шерлоков Холмсов, по большей части сидячих, с Уотсоном или с иными собеседниками, то в купе поезда, то в двуколке, то на кресле, укутанном в белый холщовый чехол, то в качалке, то при свете (зеленоватом?) настольной лампы, то перед полувыдвинутым ящиком стола, а иногда стоячих, за чтением письма, за расшифровкой секретного сообщения. Эти картинки как будто говорили: de te fabula narratur.[219] Шерлок Холмс был как я, как я сам и в эту самую минуту, расшифровщик прошлых или будущих событий, не выходящий из дому, не выходящий из комнаты, а может быть, даже (поди пересмотри такую уйму страниц) и с чердака. И он, как я, неподвижен и отъединен от мира. И он, как я, разгадывает чистые знаки. Холмсу обычно удавалось выудить вытесненное значение. Удастся ли мне? Будем действовать по примеру Холмса. Вперед.
Пo примеру Холмса, через туман. Ведь как сказано в «Этюде в багровых тонах» или в «Знаке четырех»:
Был сентябрьский вечер, около семи часов. С самого утра стояла отвратительная погода. И сейчас огромный город окутывала плотная пелена тумана, то и дело переходящего в дождь. Мрачные, грязного цвета тучи низко нависли над грязными улицами. Фонари на Стрэнде расплывались дымными желтыми пятнами, отбрасывая на мокрый тротуар поблескивающие круги. Освещенные окна магазинов бросали через улицу, полную пешеходов, полосы слабого, неверного сияния, в котором, как белые облака, клубился туман. В бесконечной процессии лиц, проплывавших сквозь узкие коридоры света, — лиц печальных и радостных, угрюмых и веселых, — мне почудилось что-то жуткое, будто двигалась толпа привидений. Как весь род человеческий, они возникали из мрака и снова погружались во мрак…[220]
Утро было пасмурное, туманное; свинцовое покрывало нависло над крышами домов, и в нем словно бы отражалась уличная слякоть. Спутник мой был в отменном настроении и без умолку болтал о кремонских скрипках, о разнице между инструментами Страдивари и Амати.[221]
Ничего общего с «Пиратами Момпрачема» Сальгари:
В ночь на 20 декабря 1849 года неистовый ураган бушевал над островом Момпрачем.
Гонимые яростным ветром, как сорвавшиеся с привязи лошади, бежали по небу черные облака. Бурный тропический ливень обрушивал на остров потоки воды. Шторм, не стихавший уже третьи сутки, с пушечным гулом разбивал огромные волны о его каменистые берега.