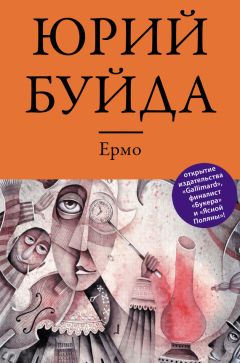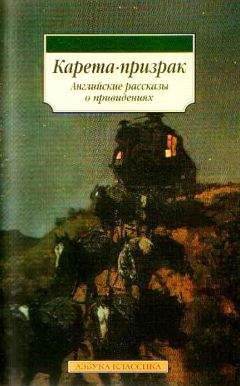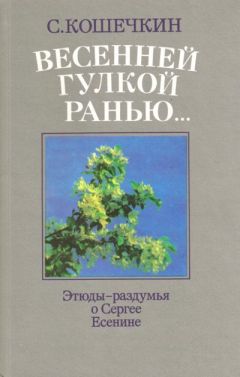Ознакомительная версия.
Джордж глубоко вздохнул – Агнесса вздрогнула и посмотрела на него.
– Всякий раз мне хочется выдохнуть, перевести дух… – Ермо покачал головой. – Назвать это чудовище «Молением о чаше» мог либо кощунник, либо человек, уже не надеющийся спасти свою вечную душу… – Он встрепенулся, взял девушку за руку. – Вы, конечно, обратили внимание на сюжет с чашей? Мистер Макалистер подготовил для меня нечто вроде синопсиса, изложив связанные с этой картиной легенды и предания. По одной легенде, Якопо дельи Убальдини был страстно влюблен в хозяйку этого дома. Однажды любовники хитростью заманили мужа синьоры в подвал, где и заперли, чтобы без помех наслаждаться друг дружкой. Однако с самого начала их счастью мешали случайности. Сначала – смерть дочери хозяйки, то ли самоубийство, то ли козни дьявола, то ли даже убийство… Потом любовник застал ее в объятиях духовника, по другой версии – это был ражий конюх. Как бы там ни было, расстаться они были не в силах, связанные уже, быть может, и не страстью, но общей страшной тайной. Сколько-то лет они не переставая терзали друг дружку, а в один прекрасный день их нашли мертвыми, рядом валялся кинжал в форме распятия… Кстати, в бунюэлевской «Виридиане» монахиня чистит таким ножиком яблоко, из-за чего на режиссера ополчилась вся католическая кинопресса… Но это – так, к слову. А что касается любовников… до сих пор неизвестны обстоятельства их гибели. Мужа хозяйки обнаружили мертвым в некоей потайной комнате, его опознали по костюму и волосам. Порок был наказан, хотя добродетель и не восторжествовала. Но если эта история – правда, возникает вопрос: когда же художник создавал свою картину? Мне почему-то кажется… – Он встал и подал руку девушке. – Мне почему-то хочется думать, что это полотно представляет собою нечто вроде дневника художника, который запечатлевал на холсте свою жизнь, историю нечистой страсти – эпизод за эпизодом, вперемешку с образами, приходившими попутно ему в голову, – потому-то и получилась такая мешанина: сцена там, сцена здесь… Сюда.
В конце зала они поднялись по трем ступенькам к узкой двери, которую Джордж отпер большим ключом с вычурной бородкой и посторонился, пропуская Агнессу внутрь.
Она с любопытством рассматривала скудное убранство комнаты, пока Джордж зажигал свечи и доставал стаканы и бутылки.
– Нет, в кресло садитесь вы, – решительно запротестовала она, когда хозяин жестом предложил ей сесть. – А я, если не возражаете… – Она со смешком скинула туфли и легко опустилась на пол. – А я вот так… – Пошевелила пальчиками ног. – Ой и здорово же!
Поколебавшись, Джордж все-таки сел в кресло и протянул ей стакан.
– Самое забавное, – наконец заговорил он, – заключается в том, что этот безумный Якопо Убальдини поведал о моей жизни. Ну, не понимайте буквально – поведал, что называется, близко к тексту. А чаша с картины – вот она. Чаша Дандоло. Прошу любить и жаловать. Pith of house – pith of heart. Когда я смотрю на нее, мне вспоминается одна история… я вычитал ее у Шолема… речь идет о еврейских мистиках… о хасидах… Баал Шем Тов, рабби Дов Бер, Исраэль – они были хасидскими раввинами… Так вот, когда рабби Баал Шем должен был свершить трудное деяние, он отправлялся в некое место в лесу, разводил костер и погружался в молитву… и то, что он намеревался свершить, свершалось. Когда в следующем поколении Магид из Межерича сталкивался с такой же задачей, он отправлялся в то же самое место в лесу и рек: «Мы не можем больше разжечь огонь, но мы можем читать молитвы…» И то, что он хотел осуществить, осуществлялось. По прошествии еще одного поколения рабби Моше Лейб из Сасова должен был свершить такое же деяние. Он также отправлялся в лес и молвил: «Мы не можем больше разжечь огонь, мы не знаем тайных медитаций, оживляющих молитву, но мы знаем место в лесу, где все это происходит… и этого должно быть достаточно». И этого было достаточно. Но когда минуло еще одно поколение и рабби Исраэель из Ружина должен был свершить это деяние, он сел в своёе золотое кресло в своем замке и сказал: «Мы не можем разжечь огонь, мы не можем прочесть молитв, мы не знаем больше места, но мы можем поведать историю о том, как это делалось»… это история про меня, про мое прошлое, настоящее и, возможно, будущее… я не знаю этих молитв, не могу разжечь огонь, я ничего не знаю об этой чаше, но уже давно не могу жить без нее…
Агнесса смотрела на него блестящими глазами.
Он склонился над душистыми каштановыми волосами.
– Вам удобно так? Может, вы хотите чего-нибудь?
Она подняла лицо и, с удивлением глядя на него, сонно пробормотала:
– Тебя…
«…И пришла к нему Ависага Шамардина, нежная и душистая, как весенний тополь, Агнесса Сунамитянка, текучая, как нуга, медовотелая шлюха, утешительница, любовь, что превыше всякого ума, презренная воровка, мерзкая дрянь, блядво поганое, Суламифь, гибкими и текучими руками своими оплетшая тело его, чтоб он познал ее, и свела плоть свою над ним, и зажгла звезды в пустоте, – и он познал ее, распростертую на широком ложе подобно царице либо скотнице, – вонючую, тающую, извивающуюся, состоящую из одних шипящих и сонорных, из мяса и пряностей, из вина и хорошо пропеченного хлеба, из-под мышек у нее текло, и из устья текло, и разверстый рот клокотал, и вся была словно из влаги, чтоб он прошел ею и через нее, и он прошел…»
А под утро она ушла, пообещав вернуться – «когда-нибудь» – и оставив надпись, сделанную помадой на зеркале, чтобы уж все было как в голливудской глицериновой мелодраме: «Love u, dream». И быть может, впервые за последние годы он по-настоящему заснул и спал, хоть на какое-то время оставленный болью. Это потом, впоследствии – какое горбатое и низменное слово «впоследствии», подловатенькое, как урод, сипящее, подсвистывающее, расплющенное и сходящее на нет тоненьким дифтонговатым визгом, – да, впоследствии, потом, когда Нуга – нарек он чудовище-женщину Нугой – приходила каждую ночь, чтобы стеречь его сон и подавать лекарства и воду, и ложилась рядом, согревая его содрогающееся, крутимое лихорадкой тело, – вот потом он просто-напросто не возражал против ее тела рядом, и даже посмеивался в низинах бреда: «Хлюпающий носом старикашка-эротоман, облизывающийся при виде этакой коровищи, вот же ее ножищи, грудищи, вот все ее ищи, – забыл, что хлад и стыд в твоем родном языке одного корня: студ кличет стыд, студно-студено-стыдоба-стыдища… А? Хавэл!» Но это все – потом, впоследствии, – а в ту ночь он наконец-то смог выспаться и увидеть сны, до которых давно хотел добраться, но все никак не удавалось, а вот в ту ночь пали плотины, и хлынуло, и затопило, и понесло, подбрасывая и закручивая в пенящихся водоворотах, в багровые теснины сердца, содрогавшегося от этих ударов, от радости и страха, – вольно было снам кружить и кружить, закруживая так, что важное и неважное, большое и малое становились как одно…
«…Белые ноги. Тяжелое одеяло треугольным крылом свесилось на пол, обнажив красные бугристые колпаки колен, раздутые безволосые мышцы голеней, изуродованные всплывшими из черной мясной глубины венами, короткие толстые пальцы со следами давнишних мозолей и огромные ступни табачного цвета. Зеленоватый полусвет затопил комнату с низким потолком и скрипучим полом, посреди которой, на широкой кровати без спинок, покоилось громоздкое тело. Тело утопленника. На столике рядом с кроватью тоненько звякнули склянки с аптечными наклейками – от неощутимого толчка, шедшего из адских глубин этого бесконечного дома. Старик одышливо постанывал. Складка на лбу придавала его геометрически правильному лицу хмурое выражение. Всхлипнул, уронив руку на треугольное крыло одеяла. Рука. Животное рука. Сильное, потное, сонное, с толстыми кривыми трубками сосудов, наполненными медленной горькой кровью – с каждой ночью все более вязкой и все более хладной. Мерзостно стынущая кровь, загустевающая в бесконечных лабиринтах, извилисто тянущихся в загадочную глубину, в средоточие тьмы, in pith of heart, – во тьму злотворную и непроницаемую. Обреченное чудовище. Струп. Что ему снится? Вчера – огромная жаба вот с такущими сиськами. Он еще хоть куда. Он, до дрожи в сердце чувствующий волнующую свежесть всех воскресений и тяжесть всех понедельников этой вечности, отдыхающий лишь на восьмой день недели, некогда открытый им и никем не востребованный. Он спустился в гостиную. Из кухни доносятся приглушенные голоса: женщины уже встали, но котлетный смрад еще не проник сюда, не смешался с тонким ароматом кофе. Жидкий свет, бессильный рассеять застоявшуюся тьму в гостиной, растекся по подоконнику лужицей, в которой плавают очки с круглыми желтыми стеклышками, раскрытая книга с гравюрой – всадник в татарском боевом наряде на злобном лохматом коньке, початая пачка папирос с донником, курительная трубка и безупречный хрустальный цилиндр с никлым тепличным цветком, чьи лепестки-щупальца прижались к запотевшему оконному стеклу. В глубине гостиной истекает лаком черная глыба рояля. В тишине сухо постукивают старинные напольные часы, рядом с зеркалом, в котором кто-то мелькнул, но кто – он не понял и тотчас вернулся к зеркалу, но увидел, конечно же, лишь себя. Внутри темно-вишневого ящика что-то заскрипело, зашипело, и, уже включив в ванной свет и пустив воду, он услыхал резкий медный бой. Жесткая зубная щетка с жирным червячком пасты нырнула в рот. Вода с дребезжащим звуком падала в ванну и собиралась справа, вокруг желтого пятна, рядом со сливом. Запах котлет и кофе уже проник сюда. Засыпанный снегом стеклянный купол над ванной комнатой опалово светился и будто даже мерцал. После бритья он умылся кельнской водой. Ребром ладони согнал мутную воду со дна ванны к сливному отверстию. Тщательно вытирая руки, каждый палец и между пальцами, всматривался в свое лицо, желтевшее во вспузырившемся по краям зеркале.
Ознакомительная версия.