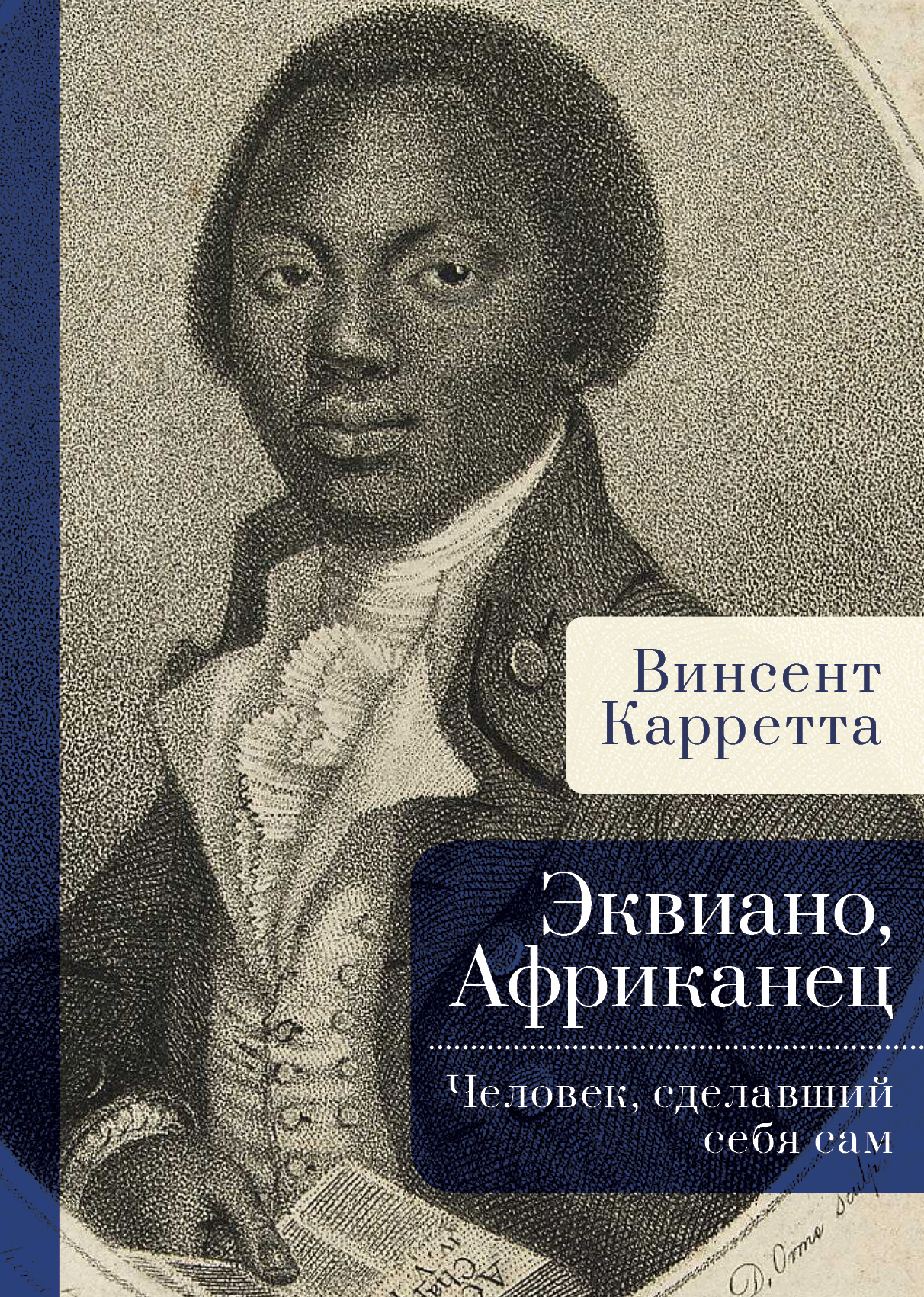– Так тебе он не нравится? – спросила я.
Мама глубоко вздохнула и села напротив меня за деревянным столом. Она схватила мою непокрытую лаком руку, повернула ладонью вверх и сказала, постукивая по ней пальцем:
– Я… Это не его вина, что он родился таким. У кого родился… – Мама глубоко вздохнула. – В такой семье.
Она сделала еще один рваный вдох, и по тому, как собралось и разгладилось ее лицо, я поняла, что она думает о Гивене.
– Он просто мальчик, такой же, как и другие его сверстники. У которого впервые взыграло ретивое и который думает своей нижней головой.
Как твой брат, чуть не сказала она. Одернула себя в последний момент.
– Мы же не делаем ничего безумного.
– Если у вас с ним еще не было секса, то скоро будет. Предохраняйтесь, ладно?
Она была права, но я не послушала. Десять месяцев спустя я забеременела. Когда Майкл купил тест и он показал беременность, я принесла его Маме и все ей рассказала. Рассказала в субботу, потому что Па работал по субботам, а я не хотела, чтобы он был в этот момент рядом. День был ужасный. Была ранняя весна, и дождь лился всю ночь и все утро: порой гром грохотал так близко, что моя гортань дрожала, мои дыхательные пути сжимались, и мне становилось трудно дышать. Я всегда боялась молний, всегда думала, что однажды меня ударит, что молния пройдет сквозь воздух и коснется меня большим синим дуговым разрядом, подобно копью, летящему прямо в меня, а я буду беззащитна перед его острием. Я выросла с паранойей на тему того, что молнии преследуют меня, пока я еду в машине, а они стучат мне в окно.
Мама развешивала растения сушиться по всей гостиной на веревке, которую Па натянул из стороны в сторону зигзагом, так что растения покачивались в наэлектризованном воздухе. Мама наполовину смеялась, наполовину бормотала что-то, мягкие части ее рук сверкали белым и прятались вновь: как котенок, показывающий брюшко.
– Вот и пришел. Уже не одну неделю поет.
– Мама?
Она слезла с сосновой табуретки, которую смастерил ей Па. Он вырезал ее имя на сиденье; буквы выглядели как вихри дыма. Филомена. Это был ее подарок на День матери много лет назад – тогда я была так мала, что помочь могла только тем, что нацарапала небольшую звездочку, четыре линии пересекающиеся в середине, рядом с именем, а Гивен вырезал розу, которая выглядела скорее как грязная лужа, теперь почти стертая ногами Мамы.
– А я все думала, сколько времени тебе еще понадобится, чтобы набраться смелости и рассказать мне, – сказала она, держа табуретку под мышкой, как будто собиралась убрать ее, но вместо того, чтобы пойти на кухню, села на диван и положила табуретку себе на колени.
– Мэм? – переспросила я.
Гром гремел. Я почувствовала жару вокруг шеи и под мышками, словно на меня разлили горячее масло. Я села.
– Ты беременна, – сказала Мама. – Я увидела это еще две недели назад.
Она протянула руку поверх табуретки и коснулась меня, не беспощадной рукой молнии, а своими сухими, теплыми ладонями, мягкими под загрубевшей от труда кожей, только одно касание моего плеча, словно она нашла там пылинку и смахнула ее. Я неожиданно прижалась к ней, наклонилась вперед, положила голову на табуретку, пока она гладила меня по спине круговыми движениями. Я плакала.
– Прости, – сказала я.
Дерево жестко давило на мой рот. Непреклонное. Мокрое от моих слез. Мама наклонилась ко мне.
– Сейчас не время просить прощения, детка. – Она схватила меня за плечи и подняла, чтобы посмотреть на мое лицо. – Что будешь делать?
– В каком смысле?
Ближайшая клиника, в которой делали аборты, находилась в Новом Орлеане. Одна из более обеспеченных девочек в моей школе, чей папа был адвокатом, обратилась туда, когда забеременела, и я знала, что это дорогое место. Я думала, что у нас нет таких денег. И я была права. Мама махнула рукой в сторону подвесных растений, склонившихся джунглями над нашими головами в прохладном электрическом воздухе.
– Я могла бы дать тебе кое-что.
Она оставила конец предложения незавершенным, словно его и не было. Посмотрела на меня так, словно я была заляпанной книгой, которую она тщилась прочитать, и прочистила горло.
– Это была одна из первых вещей, которые я научилась делать во время своей подготовки. У меня вечно не хватает этого чая.
Она дотронулась до моего колена, нашла еще одну пылинку. Она снова откинулась назад, и ее кюлоты натянулись на коленях. Много лет спустя именно там она впервые почувствовала боль от рака: в коленях. Затем боль переместилось к бедрам, талии, позвоночнику, к черепу. Как змея, ползущая вдоль ее костей. Иногда я вспоминаю тот день, когда она сидела на диване, даря мне эти маленькие прикосновения, прикосновения, которые не хотели направить меня в ту или другую сторону, хотя, думаю, она хотела Джоджо, потому что ее траур по Гивену жаждал новой жизни. Иногда я задаюсь вопросом, был ли уже с нами ее рак в тот момент, был ли он еще одним яйцом, желтым яйцом, сплетенным из горести, в форме пулевых отверстий, шевелящимся в ее костном мозге. В тот день на ней была блузка, сшитая ею самостоятельно из ткани с бледно-желтыми цветами. Розами, кажется.
– Ты хочешь этого малыша, Леони?
Вспышка молнии внезапно осветила дом, и я дернулась, услышав грохот грома.
Я подавилась и закашлялась; мама похлопала меня по спине. Влажность оживила волосы вокруг ее лица, пряди вставали и скручивались в сторону от ее маслянистой кожи. Молния ударила снова, на этот раз будто прямо над нами, в нескольких шагах от входа в дом, и ее кожа была белой, словно камень, а волосы развевались, и я вспомнила Медузу, которую видела в старом фильме, когда была маленькой, ужасную и зеленокожую, и подумала: Все перепутали. Она была прекрасна, как Мама. Именно потому мужчины каменели перед ней, увидев нечто столь совершенное и свирепое в этом мире.
– Да, Мама, – сказала я.
Меня до сих пор коробит, когда я думаю об этом: о том, что я колебалась, что я смотрела на лицо своей матери в том свете и чувствовала, как борюсь с желанием стать матерью, с желанием родить ребенка в этот мир, дать ему эту жизнь. То, как мы сидели на том диване, касаясь коленей друг друга, склонив спины, опустив головы, навело меня на мысль о зеркалах и о том, как я хотела стать другой женщиной, как я хотела уехать куда-то далеко, отправиться на Запад, в Калифорнию, наверное, вместе с Майклом. Он все время говорил о переезде на Запад и о работе сварщиком. С ребенком это будет сложнее. Мама посмотрела на меня, и теперь она была уже не каменная: глаза у нее стали помятые, а рот смешно изогнулся, и я поняла, что она знает, о чем я думаю. И я вдруг испугалась, что у нее есть еще и способность читать мысли, что она увидит меня внутри, пытающуюся уклониться от своей судьбы. Но потом я подумала о Майкле, о том, насколько счастливым он будет, о том, что у меня всегда будет часть его, и это тревога растаяла, как сало в чугунной кастрюле.
– Хочу.
– Я бы хотела, чтобы ты сначала закончила школу, – сказала мама.
Еще одна пылинка, на сей раз на моих волосах.
– Но как есть, так есть.
Тогда она улыбнулась: тонкая линия, без зубов, и я наклонилась вперед и вновь положила голову ей на колени, и она провела руками вверх и вниз по моей спине, между моих лопаток, нажимая на основание моей шеи. Успокаивая меня, как ручей, как будто она впитала в себя всю воду, обрушивающуюся на мир за окном, и выделяла ее по каплям, чтобы успокоить меня. Я дочь океана, дочь волн, дочь пены, – пробормотала мама на французском, и я поняла. Поняла, что она обращается к Пресвятой Деве Реглы. К Звезде Моря. Что она взывала к Иемайе, богине океана и соленой воды, своими умиляющими звуками и словами, и что она обнимала меня как богиня, ее руки были – все дарящие жизнь воды мира.
Я мирно сплю, пока Майкл не будит меня, вонзая пальцы в мое плечо. Во рту так сухо, что даже губы слиплись.
– Полиция, – говорит Майкл.