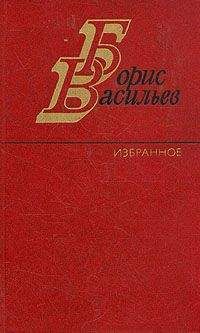Утром над Верхней баррикадой развевалось три кумачовых полотнища. Обычно указав, что флаг развевался, писатель, как правило, никогда не указывает, откуда он взялся. Поэтому у читающих зачастую создается впечатление, что подобные флаги войска возят с собой, как, скажем, второе ватное одеяло для командующего. Так вот, чтобы не появилось у вас этакой мыслишки о запасливой предусмотрительности наших предков на все случаи жизни — мыслишки опасной, ибо она разъедает правду, как царская водка золото, — я откровенно признаюсь, что самые первые красные флаги, поднятые в моем родном Прославле, были сделаны руками жен и дочерей мастеров с Успенки из кумача, купленного у противника. И, возможно, именно это обстоятельство вызвало в правительственных кругах не только негодование, но и реальное представление об истинном размахе крушения принципов, предстоящего Прославлю в обозримом будущем.
Бабушку восхищал этот нравственный кульбит, этакое абсолютное и безусловное доказательство торжества оголтелого практицизма над этическими отвлеченностями. В самом деле, в то время как шепелявый племянничек неутомимо науськивал скопища да сборища на тихих работящих людей, деловитый дядюшка готов был украсить каждый дом Успенки, Пристенья и даже самой Крепости красными провозвестниками революции, лишь бы кумач для такого убранства был куплен в его лавке за наличные деньги и, главное, не торгуясь. Отец тоже отдавал дань этому парадоксу, но считал, что мне не следует особо подчеркивать его, дабы потомки Изота не воспользовались публикацией для упрочения своего политического фундамента во дни сегодняшние. Я размышлял, взвешивал и долго ничего не писал, пока бабушкино насмешливое удивление окончательно не заглушило во мне столь же насмешливой отцовской предусмотрительности.
Ну как бы там ни было, а в Прославле на следующий день в глаза вершителям судеб города с первыми лучами солнца ударил алый цвет баррикадных флагов. Пять мулет одновременно — три на Верхней баррикаде и две на Нижней — затрепетали пред туповатым прославчанским быком, что и вызвало к жизни столь хорошо известный всем нам рев:
— Патронов не жалеть!
Правда, по первости жалели не столько патроны, сколько собственную совесть, доселе как-то сосуществовавшую со всеми прославчанами без различия крови, веры и достатка. Даже полиция с жандармерией из пяти залпов три объявила предупреждающими, четвертый пуляла мимо, и только последний мог быть направлен в цель, хотя и этого чаще всего не происходило. Но полиция и жандармы были отозваны уже на второй день, против Успенки — какие уж там Сидки, когда все забыли, с чего весь этот сыр-бор разгорелся! — были нацелены самые что ни на есть боевые войска, но провести в жизнь указание начальства в смысле бесконтрольной траты боеприпасов командиры долго еще не решались. Вот каким путем образовалась некоторая передышка, которая, по сути, являлась пробуксовкой шестерен, колес, маховиков и приводных ремней громоздкой государственной машины. С капитанского мостика давно уж прозвучало: «Полный вперед!», а чудовищно неповоротливый дредноут самовластия преспокойно стоял себе и стоял, если вообще не пятился: таково уж свойство всех автократических государственных систем.
Эта передышка дала возможность Кузьме Солдатову навестить очень справедливого, но и очень осторожного Данилу Самохлёбова. К тому времени, как рассказывали, Юзеф Янович Замора уже воткнул в колодку шило, велел слепой Ядзе не подходить к окнам, а остальным не высовываться и опоясал себя ржавой драгунской саблей (хотел бы я найти поляка, у которого не оказалось бы сабли!). Байрулла Мухиддинов командовал сбором борон, какие только можно было сыскать, и лично загораживал ими подходы к баррикаде: уж кто-кто, а он знал повадки не только коней, но и всадников. А Мой Сей аккурат в этот момент надевал свой старый, но еще вполне сносный лапсердак, готовясь вновь выступить перед солдатами; одновременно он отодвигал Шпринцу, которая уже голосила на всю Успенку:
— Чтоб я так жива была, если ты уйдешь! Чтоб закрылись мои глаза, если откроется твой рот! Чтоб у меня отнялась рука, нога и голова, если ты…
— Надежда моя, у женщины есть вечный страх за мужчину, а у мужчины есть вечный долг перед женщиной, — терпеливо втолковывал муж, всякий раз нежно перенося ее от дверей в угол и заворачивая там в перину, из которой Шпринца немедленно выворачивалась и снова оказывалась на его пути. — Ты знаешь, что происходит, когда солдаты с оружием врываются в дома, где мирно живут мирные люди? Они забывают закон и справедливость, а это очень опасно, и я должен объяснить им, что куда лучше забыть дома ружье, чем свою совесть.
Обратили внимание, как я тяну? Я все время вроде бы отодвигаю начало кровавых боев, хотя трубач уже поднес к губам ярко надраенный медный мундштук. Но я ничего не отодвигаю, потому что только в книжках и кино действия нанизаны друг на друга, как мясо на шампур: в жизни все перевито, перепутано, перевязано и перемотано таким количеством причин и следствий, что у нас не хватит самой вечности, если мы вздумаем детально рассмотреть хотя бы один день из биографии любого человека. А кроме того, я очень хочу еще раз обратить ваше внимание на судей Успенки. Их выбирали не в силу традиции, не по приказу и не по весу кошелька, их выбирали за обостренное чувство справедливости, и если это чувство заставило их выйти из домов, значит, справедливость в те времена была на баррикадах.
— Они ворвутся на Успенку, и пострадают невинные, — сказал Кузьма Солдатов.
Данила Прохорович пил чай, с хрустом грызя сахар. Он указал глазами, и перед Солдатовым оказалась чашка.
— До этого, Кузьма, мы успеем напиться чаю.
Кузьма взывал к совести, толковал о справедливости, стращал карами и жестокостями, а колесный мастер невозмутимо пил чай. Потом отодвинул свою чашку, молча прошел в чулан и вынес оттуда два охотничьих ружья.
— Патронов у нас маловато. Придется беречь.
— Байрулла отгораживается боронами. Ни один казак на бороны коня не погонит, хоть сам император ему прикажи.
— Что же это такое делается в мире, Кузьма? — вздохнул Самохлёбов. — Что же это такое творится, если сам Байрулла бороны лошадям ставит, чтобы они ноги переломали?
— Что же это за такое творится в мире? — кричал в это время чернильный мастер, выйдя к солдатам в своем почти что нестаром лапсердаке, пока Шпринцу держали соседки. — Что же это за такое, если приказывают стрелять в живой народ? Власть сошла с ума, солдаты! А если она сошла с ума, так вяжите ее, и давайте вместе разойдемся!
— Арестовать, — негромко распорядился чиновник для особых поручений, прибывший для наблюдения и общего руководства.
И до всяких штурмов, а так и обстрелов, до всех тех почти недельных боев, о которых мне еще рассказывать да рассказывать, чернильного Мой Сея схватили под руки и уволокли быстро, четко и молчаливо. Совесть была заглушена на глазах, рот ей, так сказать, заткнули физически, и командиры всех рангов вздохнули с облегчением. Теперь все стало так понятно, так просто и легко, что осталось только скомандовать:
— Вперед! За веру, царя и Отечество!
Вот когда все началось, если под началом разуметь не временное, а фактическое, то есть вполне серьезное, начало. И дело не в том, что крови пролилось куда больше, чем до сего момента, — и Успенка, и Пристенье, и сама Крепость (хоть, правда, и в меньшей степени в последние сто лет) давно уже привыкли к виду, цвету, запаху и вкусу крови как на ежегодных кулачных боях, так и при не столь регулярных драках, дуэлях и убийствах. Дело заключалось в том, что, плоть от плоти народа своего, бывшая доселе защитником его наполненной трудами и заботами жизни, а потому и образцом мужества, отваги, бравого вида и бравого духа, — его армия выступила против собственных братьев, сестер, отцов и матерей. Свершилось — и с того времени парады в городе Прославле уж никого не собирали, кроме отставных бездельников, а в девичьих сердцах надолго померк образ звонкого и блестящего душки-военного. В глазах народа армия словно бы повернулась кругом, превратив собственных передовых в отставших и сделав собственный арьергард своим авангардом. Таков был один из первых непредсказуемых парадоксов свершавшегося.
Медленно, неохотно, с надсадным тяжким скрипом повернулось колесо Вечности, предлагая не только иной отсчет времени, но и новую шкалу ценностей мира сего.
Бабушка уверяла, что ровнехонько сто одиннадцать офицеров, служивших в городе Прославле, тогда же и подали в отставку. Я никогда не сомневался, если дело касалось цифр и бабушки, ибо почти мистическое совпадение ее возраста с возрастом нашего столетия действовало на меня убедительно. Но в этом случае позволил себе усомниться, поскольку три единички кряду казались началом легенды. Обычно молчаливо уступчивая бабушка моя в данном вопросе проявила исключительное упорство, и я сдал назад, почувствовав, что где-то начали сгущаться тучи.