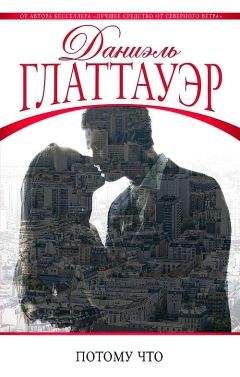— Надеюсь, этих троих мы еще услышим здесь в качестве свидетелей?
Вопрос был обращен к председателю суда, но я опередил его. Я объяснил студенту, что установить настоящие имена Джима, Рона и Бориса довольно сложно и скорее всего эти трое давно уже, как говорится, «залегли на дно». Я покосился на порнопродюсера. Тот кивнул, соглашаясь со мной.
— Завтра приглашены несколько свидетелей со стороны потерпевшего, — ответила очкарику Штелльмайер.
Это означало, что на сегодня достаточно. Она была права.
Оказалось, что сегодня четверг и на обед чечевичный суп. Есть мне расхотелось. Третье письмо с кроваво-красными пятнами и надписью «Яну Хайгереру, освободителю» уже валялось в картонной коробке для мусора, разорванное на четыре части. Однако свое дело оно сделало. То, что я его не читал, не имело значения.
У меня было достаточно времени, чтобы восстановить послание. Я управился за несколько секунд. «Спокойно, Ян, — говорил я себе. — Это всего лишь листок бумаги».
Я думал о том, что совершил тяжелое восхождение и уже почти покорил вершину. Оставалось установить крест. (Как бывшему редактору, мне понравилась эта метафора. Крест — хороший образ.)
На сей раз послание выглядело иначе. Написанное изящным курсивом, оно не содержало ни заглавных букв, ни знаков препинания. Текст тянулся по белому листу бумаги тонкой чернильной вязью.
высокочтимый ян хайгерер почему вы рассказываете суду в чем вы виновны вы не совершили ничего плохого вы подвели скверное дело к хорошему завершению вы делаете то чего мы боимся больше всего вы должны быть оправданы и освобождены вы покончили с серым ни один земной суд не вправе за это наказывать мы вынуждены принимать меры рольф вольный каменщик смерти смотрит на вас с небес что он видит что ему приходится видеть вам не место в тюрьме храни вас бог энгельберт ауэршталь.
Спокойно, Ян. Это всего лишь письмо. Я утоплю клочки бумаги в чечевичном супе. К счастью, я не депрессивный тип.
Перед началом пятого дня слушаний в наказание за свое признание я целый час провел в комнате для задержанных. Охранники больше не разговаривали со мной. И это при том, что почти всю ночь шел дождь, — я слушал его, размышляя о письме. Дождь в марте — ничего необычного, однако это подходящая тема для беседы.
Тот, который больше не надеялся на появление снега, таращился на радиопередатчик. Создавалось впечатление, что он изучает его устройство. А может, там была какая-то новая компьютерная игра для полицейских? Бог знает, как далеко могла зайти техника за время моего заключения.
Тот, который еще ждал появления снега, сидел, уткнувшись в газету. Вероятно, он просто отгораживался ею от меня, убийцы-гомосексуалиста. Не исключено, что тем самым он хотел лишний раз ткнуть меня носом в последние творения моих друзей-журналистов.
«Хайгерер признался в убийстве из ревности» — гласил набранный гигантским шрифтом заголовок, под которым шло пояснение: «Драматический поворот в суде». «Всемирно известный журналист газеты „Культурвельт“ сделал сенсационное заявление. Теперь ему грозит пожизненное тюремное заключение. Приговор огласят в ближайшую среду».
Больше всего на свете мне хотелось сейчас обсудить с охранниками ночной дождь.
У входа в зал я сразу понял, что она там. Сам не знаю, как это произошло, наверное, успел скользнуть взглядом по ее рыжим волосам. Сразу повеяло вечной осенью — единственный из ароматов внешнего мира, который я пока воспринимал. Хелена собиралась сесть в одном из первых рядов, и это меня беспокоило. Что ей нужно? Чего она здесь ищет? Или ее работа с моим делом не закончена?
Вопросы множились. Придет ли миниатюрная брюнетка, с которой Хелена разговаривала несколько дней назад? Откуда я ее знаю? Что общего у нее с Хеленой? Чего они от меня хотят? Или их не устраивает мое признание, которому я сам почти уже поверил?
В начале заседания подводили итоги предыдущего дня, задавали вопросы. У меня поинтересовались, как часто я виделся со своим любовником в последние три месяца накануне убийства.
— Насколько было возможно, — ответил я.
Не присутствовал ли при этом кто-нибудь посторонний?
— Нет. Наши свидания проходили втайне, в основном у меня дома.
— А где еще?
— У него. Каждый раз в новом месте, — махнул я рукой. — На квартирах его друзей, которые вечно были в отъезде. Рольф жил везде и нигде.
На их месте я запретил бы мне отвечать таким образом.
Часто ли мы ссорились?
— Довольно редко.
Чем мы занимались во время наших встреч?
— Чем занимаются люди, состоящие друг с другом в интимных отношениях? — Я заметил сердитые лица присяжных. — Ну, хорошо… Мы слушали музыку, говорили об искусстве, курили и нюхали «травку», рисовали картины, мечтали, размышляли о будущем…
Вскоре им надоело задавать мне вопросы. Никто больше не боролся ни «за», ни «против» меня. У Томаса не оставалось аргументов, у остальных — желания.
Вскоре вышли свидетели, которым я не мог взглянуть в лицо. Роберт и Маргарета Лентц — родители и Мария Лентц — кузина.
— Это должно было кончиться именно таким образом, — начал отец, и он имел в виду вовсе не свое разъеденное водкой горло. — Он так и не стал взрослым человеком. Жил своей собственной жизнью и плевал на семью. Плевал на все и думал, что один такой на свете. Но чтобы чего-нибудь добиться, надо работать. Он этого так и не понял.
Последний раз Лентц видел отца в пятилетнем возрасте, и вопросов к свидетелю ни у кого не возникло.
— С Рольфом приходилось тяжело, — вспоминала мать. — Он водился бог знает с кем, был неуравновешен и легко попадал под чужое влияние. Считал себя художником и на этом основании лез во все сомнительные аферы. Ему не хватало отцовской руки.
У нее самой, к сожалению, на сына оставалось мало времени. Ведь надо было же как-то сводить концы с концами!
О наркотиках мать узнала из газет. Она часто навещала его в исправительном учреждении для несовершеннолетних, и он обещал стать другим.
— Рольф часто повторял, что я буду еще гордиться им, — говорила она.
Повисла пауза. Вероятно, Маргарета Лентц плакала, но я не слышал. Такие матери обычно плачут беззвучно. Я опустил голову, сдерживая слезы. То же самое она рассказывала бы о нем живом, так какая разница?
Кузина Мария знала человека в красной куртке ближе всех. Она работала медсестрой, и пару лет Рольф прожил у нее в доме.
— Он все время пытался покончить с наркотиками, — вспоминала она. — Был бунтарем, нонконформистом и строил большие планы. Ждал, что ему повезет хотя бы однажды. Дальше он пошел бы сам.
Это верно для всех. Но успех приходит к тем, кому он не нужен, кто прекрасно справляется своими силами.
— Но он же занимался германистикой! — удивилась судья.
— Германистикой? — рассмеялась девушка. — Что вы, Рольф не окончил и курса средней школы.
— Обвиняемый утверждает, что два года изучал с ним германистику!
— Это неправда, — возразила свидетельница.
Я был вне себя. Мой толстяк Томас действительно ни на что не годился.
Пришлось выкручиваться. Я объяснил, что Рольф регулярно посещал лекции как вольнослушатель, и я полагал, что он серьезно увлечен наукой. Наверное, он стеснялся открыть мне правду.
— Неужели вы никогда не обсуждали данный вопрос?
— Нет, мы не говорили о подобном, — ответил я.
Они удовлетворились.
— Когда вы в последний раз видели Рольфа? — обратилась Штелльмайер к свидетельнице.
— Примерно за год до его смерти.
Я вздохнул с облегчением и только теперь посмотрел на нее. Она напомнила мне фотографию Рольфа в газете.
— В последнее время у него стало совсем плохо со здоровьем, — заметила девушка.
Я надеялся, что ее слова они пропустят мимо ушей. Так и вышло.
— Рассказывал ли он вам что-нибудь о своих друзьях?
— Нет, об этом мы обычно не говорили. Я знала только, что все его друзья значительно моложе его.
Я кивнул в знак того, что мне известно, каким исключением я являлся.
— Упоминал ли он когда-нибудь имена Джима, Рона и Бориса?
— Нет, впервые о них слышу, — удивилась девушка.
— А об известном журналисте Яне Хайгерере ничего не говорил?
Меня передергивало, когда она называла меня журналистом.
— Нет, но, как я уже сказала, в последний раз мы виделись за год до его смерти.
— Есть ли еще вопросы к свидетельнице?
Реле поднял руку.
— Вы знаете, как погиб ваш двоюродный брат?
— Его застрелили.
— Почему вы говорите об этом так равнодушно, ведь вы любили его! — возмутился прокурор.
— Да, я его любила, поэтому мне больно, что его нет с нами, но то, какой смертью он умер, здесь ни при чем.