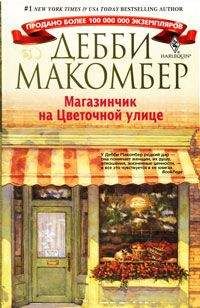Книгами облеплено все пространство, включая торговца, сидящего в них по пояс, на полу. Что-нибудь ищете, сэр? Нет, говорю, ничего определенного.
Взгляд выхватывает из этой птичьей чересполосицы знакомый корешок энциклопедического словаря. Русского. Достаю, думая, на чем бы открыть.
Баньян. Название нескольких видов деревьев рода фикус семейства тутовых. Наиболее известен под этим названием фикус бенгальский
(высота до 30 метров); может занимать площадь до 5000 тысяч кв. м., имитируя целую рощу. Крона поддерживается столбовидными возд.
(воздушными, что ли?) корнями. Развивается эпифитно, но впоследствии губит дерево-хозяина. Широко распространен по всей Индии, где с древности выращивается ради густой тени.
Эпифитно. Листаю. Автотрофные растения, не имеющие связи с почвой.
Селятся на стволах и ветвях других растений. Используют влагу и минеральные вещества осадков и пыли. Распространены повсеместно в тропических (орхидеи) и северных (мхи, лишайники) лесах.
Вышел.
Еще прошелся вдаль по вымершей улочке – ни арбузов, ни каких бы то ни было лавок: шелкопрядная тишь. Бог его знает, почему шелкопрядная. Может, тот тут, над скамейкой?
Тот – там, я – Тот, Тот – тут.
Сел на скамейку, вынул из рюкзака, открыл.
"Если бы (универсалии) сводились к небытию (других реалий), то познание (их) требовало бы зависимости от воспоминания об альтернативном, а не (осуществлялось бы) положительным образом.
Сказано ведь:
Не-корова отрицается (только), будучи (уже) установленной,
И это есть отрицание коровы.
При этом должна "констатироваться" корова,
Которая (в данном случае) и отрицается:
Если корова не установлена, нет и не-коровы,
А при отсутствии последней откуда быть корове?"
Санкхья-сутра-врити. Закрыл. И глаза тоже.
Час прошел, подхожу к двери, она выходит навстречу.
– Ну что, – говорю, – не судьба?
– Нет, – говорит, – похоже, почти нашли.
– Что значит "почти"? Почти тебя?
Не улыбается. Смотрит поверх моего плеча.
– Говорят, это займет еще часа полтора-два.
– Ладно, – говорю. – А ты что делаешь, пока они ищут, – сидишь, ждешь?
– Еще полтора-два, – говорит, глядя поверх, – ты купил арбуз? – И поворачивается к двери.
– Постой, – говорю, – ты-то как?
– Все хорошо. Который час?
– Три без пяти.
– Ты будешь на лавочке?
– Да.
– Сходи поешь. – Шагнула к двери. Обернулась. Вернулась. Прижалась.
Исчезла за дверью.
Я еще побродил взад-вперед по улочке и сел под дерево.
Амир говорит: "Женщина – это зеркало. Отраженье того, кто ты, где, что с тобою сейчас происходит".
А есть женщины – как меж двух зеркал. А есть – как вереницы их, расставленные под углом. Женщины-вереницы.
Что ж с тобою сейчас происходит? Подыши на зеркальце, Праджапати.
Праджапати. Ну конечно! Как же это я так? Закатилось яичко золотое в угол памяти, под шухлядку. Ну да – Мировое яичко, Первоначальное. И носило Его по водам дня три, то есть Сам Себя и носил, вынашивал.
Яйцо. А потом стал Курицей – Праджапати. Индру школил, отращивал нос ему. Мылил зеркальце и ополаскивал.
Мы ль – зеркальце, Праджапати, мир ли?
А мышка пробегала, смахнула, и нет его, одни страдания. Князь. Мышка.
Ночь была колкая морозная звездная – зеркалище занавешенное. Как же его звали – Рихард? Бернхард? – дядю ее, гинеколога. Жил он неподалеку от нее, от улочки ее "любосмертной", в тихом спальном квартале подметенных улиц и нахохленных бюргерских домовладений с утками, высаженными на забор. Клаус? Пусть будет Клаус. Хотя б по тому, как он встретил нас. В валенках и шерстяной красной шапочке, а между ними – не помню – проем.
И повел нас в свой сад. А в саду на снегу стояла страсть его и смотрела в изумрудное небо, занавешенное черной меленькой сеткой.
Стояла под углом 45о к горизонту. А рядом на пенальном столе лежали ее линзы.
Это был мощный цейсовский телескоп, с которым он выезжал в Альпы, грузя его в салон машины – во всю длину, – и осторожно завинчивался по серпантину к вершинам с женственным окуляром, припавшим к его плечу.
А меж этими редкими вылазками караулил в саду, выжидал, календарил, отряхивал звездную пыль. А служил гинекологом. Днем – в один космос глядел через линзу, а ночью – в другой. Меж ног межпланетных зеркальцем чутким водил. Следил за рождением новых, а ночью – сверхновых. Ас Клаус, геном с легоньким детским лицом в вязаной шапочке и размашистых валенках, а между ними – певучий проем.
Мы стояли с Ксенией по сторонам от предмета его страсти, в черном саду на тоненькой льдистой клеенке. Он долго ждал этой ночи. И теперь ворожил над линзами.
– Сатурн, – приговаривал он, – 9,54; 29,46; 10,2; 120 660; 5,68 на
10 в 26-й; СН4, Н2, Не, NH3. 17 спутников.
Мы поочередно припадали к окуляру, наведенному им на луну. "Для затравочки", – как он сказал. Я впервые видел ее на таком близком расстоянии. Ближе зрачка Ксении, когда я смотрел в него, затуманенный, тонущий от долгого – до утраты себя – поцелуя.
Мы приникали глазом к этому губчатому безресничному оку, наводя его с опереженьем луны, и она вплывала, заполняя весь глаз, озаряя его и слепя своим рваным, в подробных кавернах, бельмом.
Миг, и нет ее, но не прежняя тьма, а живое зиянье глазницы. А бельмо
– в твоем глазе, отшатнувшемся от окуляра.
– Сатурн, – удил он губами, выуживая нужную линзу из ячеисто сизого бархата, – Времясос, Чадоед, окольцованный Хроник, Косарь, Андрогин,
Уробор…
А когда мы, заиндевевшие уже, вошли в дом пообогреться и он нащупал ломкой рукою во тьме выключатель, вдруг в дальнем конце комнаты бесшумно распахнулась дверь и в световом проеме ванной возникла женщина, запахнутая наискось полотенцем. И скрылась. И глаз отшатнулся – еще раз.
И еще. Но в тот раз не отшатнулся, напротив… Напротив – что? А вот и не скажешь. Это было после занятий йогой у Прамота. Прочли указатель во тьме: Вкусная домашняя еда. "На краю". И стрелка: 800 метров.
Край поселка с тускло подрагивающими огнями уже за спиной. Тонкий крошащийся мелок дороги, проведенной по скомканной черной бумаге. И горящее окно вверху вдали.
Подходим. У плиты человек. Со спины. Тихо стоим, смотрим. Движенья его поют. И поют не просто быстрее музыки, а на такой скорости, что всякий раз свершились уже, пока она только рот приоткрыла – воздуха набрать, чтоб начаться. И отсюда это ощущение замедленности его танца, едва ли не неподвижности.
И вдруг мелькнула простая, в сущности, мысль: чем экономней движение, чем оно чище, точней, чем совершенней, тем меньше места оно занимает в пространстве, тем незаметней во времени. И в этом смысле Бог, вероятно, микроскопичен. Нана. А наш Даниил говорил: Нава.
Вдруг – его звали, голый, как воздух. Недоуменье Платона по поводу этого "вдруг" – нечто меж бытием и небытием, говорит, вне закона. И
Аристотель: время, говорит, не слагается из "теперь", линия из точек; время или не существует, или едва существует.
Он почувствовал наше присутствие и обернулся. Чем-то отдаленно напомнив Шушелькуму. Чем? Не этими безмолвными древесными губами. Не этим с высолом света лбом. Не этими опрокинутыми улыбками глаз.
– Жена, – говорит, – с детьми уехала, я один на хозяйстве, так что это займет с полчаса, если вы не торопитесь.
Мы были единственными у него посетителями. Он вынес для нас стол на верхнюю недостроенную площадку с непроглядным за ней обрывом.
Протянул шнур с лампой направленного света и примотал ее к ветке дерева.
Площадка была голой с одиноко стоящей колонной, чуть в стороне от центра. Тьма. Мы, сидящие по торцам стола с кувшином воды и двумя стаканами. Тишь. Без крыши, без неба, без двух сторон горизонта. И из двух оставшихся – каждому по одному. Мне – слепящий луч лампы в лицо, черный силуэт Ксении. Ей – скользящие иероглифы горящего леса
– там, за рекой, высоко в небе.
– Что ты видишь? – спрашивает.
– Тебя, – говорю, – как замочную скважину в негативе. А ты?
– Тебя, – говорит, – а за тобой – глаз в небе, весь в кровавых лопающихся сосудах. И так близко – кажется, ближе, чем ты.
Переставили стол так, чтоб каждому было по полгоризонта – того и другого.
– А теперь?
– Нет, – говорит, – так еще страшнее. Этот луч слепой между нами – туда, в тот небесный глаз, где эти горящие черви, кольчатые, в неторопливых конвульсиях.
– Как ты сказала – неторопливых?
Кивает.
– Каллиграфия крови?
Кивает.
– Кали?
Переставляем стол. Столоверченье. Вода в кувшине покачивается.
Теперь я его вижу, этот глаз воспаленный над нею – во все небо. Без ресниц. И в нем письмена горят. Пишутся – одновременно повсюду – и горят. Острым перышком по радужной оболочке – черной. И проступают красной бороздкой, чуть расплываясь и незаметно переиначиваясь на ходу. Так что, если вернуться взглядом, – уже не найти того слова, которое, кажется, только что проступило, еще не подсохло, а вместо него другое. Очень похожее, но другое. Двоюродное. Та же кровь, но чуть отдающая синевой.