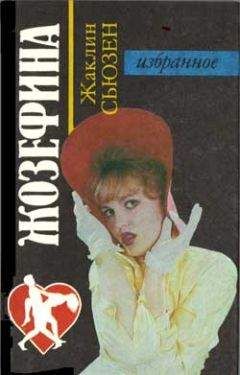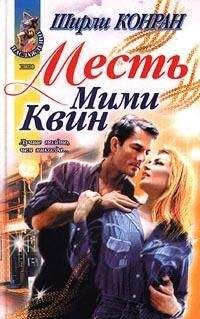О чем же мы разговаривали? Да обо всем. Ни о чем. О книгах. Преподавательская сторона ее натуры давала о себе знать. Она удивлялась тому, что она называла моей эрудицией, разнообразию моих вкусов, меткости суждений… Я и сам не знал, что такой подкованный. Я очень много читаю, я просто глотаю книги, это что-то вроде порока, как для других курение, у меня всегда, сколько я себя помню, была эта потребность, и, так как я терпеть не могу себя мучить, я читаю только то, что мне нравится. Оказывается, что мне нравится многое и почти во всех областях. Я обожаю узнавать новое, а особенно понимать его. Просто так, для собственного удовольствия, не думая о том, чтобы запомнить все это, с тем чтобы однажды воспользоваться. Она сказала "самоучка" с таким видом, будто все поняла. Я не самоучка, я не сам научился читать, мне показали, когда я был маленьким. Когда ты умеешь читать, у тебя уже есть все остальное. Я не самоучка, я просвещенный любитель, если на меня непременно нужно прилепить этикетку. Меня интересует все на свете, и, разумеется, что- то остается в памяти. Я сказал ей это, но она настаивала на своем самоучке и в конце концов, почему бы нет? Я никогда не разговаривал с таким умным человеком, как она, к тому же обладающим умом целенаправленным, оснащенным богатым словарем и всем остальным.
Не знаю ничего лучше на свете, чем слушать дипломированного преподавателя, рассказывающего мне о Плеяде и о ее влиянии на французскую просодию, в то время как я неустанно вылизываю розовую внутреннюю кожицу, выстилающую ее большие губы, время от времени уделяя внимание выпуклому дразнящему бутону, и это продолжается до тех пор, пока ее рассуждения не начинают путаться, и, наконец, она забывается и принимается постанывать.
Так прошли эти восемь дней: как одно мгновенье.
— Ну и глаза были сегодня утром у Крысельды! Они занимали пол-лица… Кажется, ее отпуск не очень удался… бедная старушка!
Так встречает меня Лизон. Она проверяет меня:
— О, скажите пожалуйста… Знаешь ли ты, что у тебя тоже не лучший вид, мой бедненький? Это все пожирательница мужчин Элоди! Обжора! Каннибалка! Она мне ничего не оставила! '
Она сразу же принимается проверять, на самом ли деле для нее ничего не осталось… Как приятно снова с ней встретиться! Как мне, оказывается, не хватало ее в объятиях Элоди, даже между бедрами Элоди… И после того как прошло несказанное мгновенье встречи, теперь уже мне не хватает Элоди в объятиях Лизон. Я бы хотел иметь их обеих вместе, я бы собирал мед с них по очереди, пил бы их росу, вдыхал бы их ароматы, всасывая их языки, облизывая груди, зарываясь носом в подмышки, вминаясь в животы… Или лучше всего смешанными одна с другой, составляющими одно целое… Полное безумие… А почему бы не три, почему бы не четыре, раз уж на то пошло? Почему бы и не "Турецкая баня" старого распутника Энгра? Действительно, почему бы и нет? Быть единственным самцом, обожаемым, избалованным, в центре целого мира нежных округлостей, животов, бедер, рун, жемчужной влаги, нежных ждущих отверстий… Материнский мир, вот как. То, чего ищет мужчина — ну хотя бы я, про других не знаю, - то, чего ищет мужчина в конечном счете в женщине, — это неугасимая тоска по матери, по полной груди, из которой потоками струится жизнь. Слизистые с пахучими соками, невинное животное начало, растворенность в дружественной мягкости, безопасность… Безопасность. Здесь царит женщина, ее присутствием напитано все, я протягиваю руку, я открываю рот, рукой, губами я ощущаю женщину… Грезы маленького неудовлетворенного мужчины, фантасмагории невостребованной любви?.. Но я удовлетворен. И даже пресыщен! Что же тогда? Все дело в голове? Вечное недовольство? Я действительно озабоченный чудак.
Я выхожу от Суччивора. Рабочее совещание. Голова разламывается. Этот тип пишет мало или даже совсем не пишет, зато говорит очень много. Сотрясает воздух. Так как ответа он не ждет, изредка я мычу "гм, гм", стараясь придать звуку восхищенный оттенок, а этому дураку только того и надо, одновременно я слежу за мыслью, которую вынашиваю в голове. Когда потом он знакомится с тем, что я снес, он чистосердечно верит, что идею родил он сам, и превозносит меня за то, что я смог так тонко уловить все нюансы его замысла, сумел передать его неподражаемый стиль и даже предвосхитить то, что он еще не сформулировал, но что уже таилось где-то в нем, готовое родиться… Болтай, болтай, жирный бурдюк, однажды мое имя вспыхнет на обложке, и мир вдруг поймет, что Суччивором-то был Эмманюэль.
Мне хочется идти и идти до тех пор, пока не заболят икры и не одеревенеют ноги, полной грудью вдыхать выхлопные газы, чтобы промыть мозги от торжествующей глупости Суччивора, от слишком хорошо поставленного голоса Суччивора, от самоуверенной физиономии Суччивора… Я сворачиваю с широких авеню, следую по Университетской улице и выхожу на бульвар. Здесь меня ждет сюрприз.
Взявшись под руки, дружными рядами люди перегородили дорогу и тротуары от одной стены до другой. Еще одна манифестация. Много женщин. Седые или очень юные, одетые в юбку-пальто-шляпу или джинсы-майку, под которой торчат маленькие груди. Относительно мало женщин среднего возраста. Из любопытства я пытаюсь узнать, в чем дело. Мало транспарантов, больше двойных плакатов типачеловек-сандвич. Они провозглашают: "Животное — существо, которое страдает", или: "Долой охоту!", или в более узком смысле: "Долой псовую охоту!" Или: "Кончайте безобразие с транспортировкой живых телят!", или: "Корриду — вне закона!", или: "Охотники, рыбаки, вивисекторы, тореадоры - убийцы!", и еще: "Вивисекция - SS", "Бросить собаку - это бросить ребенка"… В общем, друзья животных. Теперь все понятно!
В головном ряду шагают знаменитости. Прохожие, оттесненные вплотную к фасадам домов, называют друг другу их имена, счастливые тем, что узнают лица, которые "видели по телику". Ау меня нет телика. Я смотрю на этих людей, идущих с гордо поднятой головой, смотрю на немногочисленных усмехающихся полицейских, стоящих вдоль тротуара, и говорю себе, сколько же надо жалости и сколько мужества, чтобы выйти на улицу, не боясь показаться смешным, защищая такое непопулярное дело.
Беспокоиться о мучениях телят, предназначенных на бойню, в то время как мужчин, женщин, детей легко убивают сотнями тысяч в Африке, в Боснии, в России… В то время как методически разрушаются города, день за днем, под ливнем бомб, по всему миру бросают людей в тюрьмы, пытают, высылают… Нищета становится у нас "нормальной" участью большинства… Наркотики убивают детей, обогащают зарвавшееся ворье и понемногу разрушают всю систему… Сумасшедшие фанатики все множатся и готовятся устроить апокалипсис… Эта цивилизация дала многочисленные протечки, как лопнувшая труба, и скользит к неминуемой бездне нового Средневековья, когда феодалами станут мерзавцы из разнообразных мафий… Перед растущей волной упадка и равнодушия оплакивать страдания невинных и вопить о своей солидарности со всеми живыми существами — в этом что-то есть, ничего не скажешь!
Животные. Самые невинные из живых существ, они могут только страдать, не понимая за что, человеческие боги всегда провозглашали их предметами, не обладающими душой и, следовательно, бесправными, они не способны даже на злопамятство… Не здесь ли собраны все страдания, все ужасы, вся боль убиенных младенцев, поруганной невинности, святости, отданной на растерзание палачу? Животное — мученик, исчерпывающий символ всех подлых низостей.
Я говорю себе это, заложив руки в карманы и рассматривая их решительные лица, им не устоять под ударами дубинок, и думаю, что очень жаль, что в марше участвует так мало настоящих мужчин. Это даст еще одну возможность полицейским писакам изобразить манифестацию как вздорное сборище домохозяек с их песиками… На грудь мне кидается шар из шерстяных одежек. Клубок шерсти, когтей и лая вцепляется мне в ногу.
— Ты пришел? О, это прекрасно! Идем со мной. Как я рада!
Женевьева! Которую я не видел уже… Гм. Давно. Плакат у нее на груди гласит яркими буквами:
Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ!
Она поворачивается ко мне спиной, где написано мрачными черными буквами:
Я НЕНАВИЖУ СМЕРТЬ!
— Тебе нравится?
— Я даже прослезился, Женевьева! Это лучше всего. Этим сказано все.
— Я сама придумала. Не знаю, понятно ли это им, мне плевать, главное, я сама понимаю.
Женевьева знакомит меня со своими подружками - с высокой тощей молодой женщиной с горящими глазами, посвятившей жизнь приюту для брошенных собак и кошек, и, поверяет мне Женевьева на ухо, она сломает себе на этом шею, ты не можешь себе представить, какая это каторга. Другая, молодая девица в каске, закрывающей лицо и голову, окружена еще более юными мальчишками и девчонками с касками под мышкой. А она, объясняет мне Женевьева, особенно не любит вивисекторов. Ты видел каски? Это трудно и опасно, ты понимаешь? Нет, я не понимаю. Я беру Женевьеву под руку, другой рукой подхватываю амазонку в каске, и мы шагаем. Я ору вместе с другими лозунги, которые выкрикивает громкоговоритель с крыши фургончика, его я сначала и не приметил. И правда, так приятно идти тесными рядами, знать, что ты не одинок, и одновременно знать, что мы еще не весь мир. Я радостно ору лозунги, сейчас это "Рыболовов в воду! Охотников в берлогу!" Я пребываю в состоянии восхищения богатством рифмы, когда стройная фигурка бросается мне на шею. Определенно, мне сегодня везет!