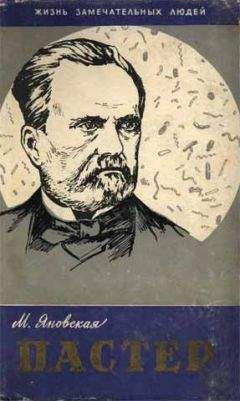Я засмеялась. Не знаю почему, но засмеялась.
— Привет, дедуля, пойдем на карусели? Ха-ха-ха!
Старшая сестра была раздавлена моими насмешками. Я топтала цветы нежных чувств, которые могли бы распуститься в кафе.
— Неужели трудно протянуть руку?
Моя старшая сестра тупела на глазах.
— Да могу я, могу протянуть ему руку! С четырьмя пальцами! Мы как четыре пальца одной руки! Ха-ха-ха!
— Знаешь, всегда лучше простить.
Да она в святые метит, ей-богу!
Простить — что? Простить — кому? Кто кого любил? Кто кого любит? Кого надо любить теперь?
С кем «Он» хотел помириться? С нами?
Ему захотелось на старости лет кормить голубей в сквере с внучатами? Вдруг потянуло на домашние пироги с йогуртом, которые мы станем печь ему по воскресеньям? Ему было бы в радость ждать у ограды, пока малыши будут кружиться на карусели? Он был бы наверняка счастлив, после его-то одинокой жизни, тащить за руку карапузов, ревущих от обиды, что не удалось поймать за хвост Микки-Мауса!
Все эти вещи, из которых состоит жизнь, ему чужды. Этот человек не живет. «Он» выживает.
Чего «Он» хотел за этой дверью, которую раз пятьдесят едва не вышиб? Я поняла это вдруг.
«Он» не говорил о маме. «Он» не смог. Даже не упомянул ее ни разу. У него язык не поворачивался! Каждую секунду я боялась, что «Он» выплеснет свою ненависть. «Он» не способен произнести ее имя! «Он» забыл о ее существовании — так ему лучше. «Он» не позволял себе думать о ней даже тридцать два года спустя.
И о нашем существовании «Он» предпочел забыть, чтобы не помнить о нашей маме.
— Вся эта ярость — это может быть только любовь! — вырвалось у меня в «Брасери-дез-Эколь».
Внезапно до меня дошло: и эта грусть тоже была от любви!
Они блефовали в своей партии в покер! Наши родители были влюблены! Нам такое никогда и в голову не приходило! Мы воображали себе все что угодно, только не это!
Я хохотала, как безумная.
— Твои антенны улавливали все, но на эту информацию срабатывала глушилка! — издевалась я над сестрой.
Да уж, вот тебе и Ушки-на-макушке!
— И ты сообщала нам сводку новостей! Ты видела, а глаза его не заметила! Ха-ха-ха!
До чего же смешно быть такой слепой.
Обе мои сестры смотрели на меня, как на преступницу.
— Думай так, если тебе нравится. Это не твое дело, а только мамино.
Коринна не желала взглянуть правде в глаза.
Вот именно. Это больше не мое дело. Я думала, что мое. Оказалось — нет. Вот так. Этот человек бился не за нас. «Он» бился за нашу маму. Между прочим, когда возник Пьер, «Он» больше ни разу не стучался в дверь.
— А-а-а-ах! Какие самонадеянные крошки! Какие дуры… возомнили себя глазом циклопа!
Моя старшая сестра готова была вцепиться мне в физиономию.
— Этот человек приходил и стучался в дверь, потому что за дверью была женщина его жизни.
Этот человек был влюблен в нашу маму. Он любит ее и сейчас.
Трагедия, в которой главные роли играем не мы. Трагедия для него. Трагедия для нас. И для нее, разлюбившей его.
— Они блефовали, не зная правил покера!
Я, кажется, усвоила уроки Стефана.
— Ты сошла с ума?
Коринна была потрясена, увидев, до какого состояния я себя довела.
Это казалось так глупо. Так просто. Так банально! Наша жизнь рухнула из-за любовной истории с плохим концом.
Не было никакого злого волка. Никакого общественно опасного элемента. И нечего было делать из мухи слона.
— «Он» — просто брошенный мужик, и все!
Коринна встала. Мы уже большие, а то бы она обозвала меня дурой.
— Мне пора.
Ее дружок тоже поднялся. Они ушли.
Я посмотрела на Жоржетту. Она как будто приросла к стулу «Брасери-дез-Эколь». И смеяться ей совсем не хотелось.
— Я сглупила, да?
Жоржетта не решилась меня корить: хватит с меня.
— Ты опоздаешь, — только и сказала она.
Мне и вправду было пора.
— Да, я тут купила по дороге кольца для салфеток. Двенадцать себе, двенадцать тебе, в подарок. Они посеребренные. Ты можешь сделать на них гравировку.
— Тяжелые какие! Зачем они мне? У меня и салфеток нет.
— Я купила двенадцать штук тебе, двенадцать себе.
Мне не хотелось тащить назад эту тяжесть.
— Теперь тебе надо позвонить маме.
Да, теперь, когда я зашла слишком далеко, деваться некуда, надо было звонить маме.
Я пришла к зданию раньше времени. Мамин голос по телефону был сухим. Я разбередила рану. От нечего делать я рассматривала прохожих.
Кто кого терял в эту минуту? Кто кого любил и кому не отвечали взаимностью? Кто сходил с ума оттого, что больше не был любим? Чья броня была так крепка, что не достать до сердца?
Вот и она.
Мама ушла с работы пораньше. Она выходит из подъезда, и я сразу вижу, как осунулось ее лицо. Мама насвистывает. Она недовольна. Идет мне навстречу и насвистывает.
— Вон там есть маленькое кафе…
Она ведет меня в это кафе, темное и тесное. Не лучшее место для разговора.
— Ну? — спрашивает она, едва успев сесть, и смотрит мрачно.
— Ну… ничего… «Он» в общем…
А мама-то готова влепить мне затрещину, допусти я малейшую промашку.
— …«Он» довольно-таки… блеклый. Никакой.
Не знаю, с той ли карты я пошла.
Я замарываю образ этого человека, которого наконец увидела.
— «Он» нудный, как осенний дождь. И я не так уж на него похожа.
На мамино лицо возвращается улыбка.
— А твои сестры?
— Да они тоже так думают. Мы поговорили о погоде. Когда тема дождей и ветра иссякла, разошлись. «Он» попросил нас писать ему…
— Ну и нахал!
Мама сама не понимает, что открывает одну за другой свои карты.
— Мы отказались.
— «Он» вас расспрашивал?
— Да, о дедушке, бабушке, Анжеле…
— Вы сказали ему, что я живу не одна?
— Да.
Я освоила покер и научилась блефовать.
— И какое «Он» состроил лицо?
— «Он» был рад.
— Понятное дело, «Он» был рад — как же ему не радоваться. Когда я рассталась с Пьером, «Он» опять объявился. Я вам не говорила, не хотела тревожить. Но теперь…
— Да, теперь…
Мама выкладывает карты на стол — все разом:
— А как у него? «Он»… завел новую семью?
Она боится спросить прямо, живет ли «Он» с другой женщиной. Разлетелись мамины карты.
Возьми назад! Возьми назад этот вопрос! До сих пор еще куда ни шло! До сих пор я могла понять!
— «Он»… у него кто-то есть?
Она задала вопрос иначе.
— Ну конечно! Мы не спрашивали, но ведь тридцать два года… если «Он» до сих пор один, значит, с ним что-то неладно!
Мама смеется.
— О чем вы еще говорили?
— Да ни о чем, только время потеряли. Я опоздала на встречу, а так…
Мама почти довольна. Я успокоила ее. Она была права. Решение, принятое ею тридцать два года назад, оказалось верным.
— Ну и как ты его нашла? Внешне?
— Ничего особенного…
— Мне говорили, что «Он» очень растолстел. И что лицо у него красное, как свекла.
— А… Да, теперь, когда ты сказала…
Я блефую. Блефую. Блефую.
Если бы мама увидела этого мужчину, она нашла бы его красивым, точно.
— «Он» был красавцем в молодости.
— Да? Надеюсь, «Он» сохранил свое фото на память!
Мама прыскает.
— Нет, «Он» не красавец. Далеко не красавец! Мордоворот!
Мама покатывается со смеху.
— Так я правильно сделала, что ушла от него?
У нее еще осталось сомнение.
Спасите! Мне нечем дышать! Это трагедия для него, трагедия для нас, трагедия для нее! Возьми назад и этот вопрос! Возьми его назад, умоляю! Я сейчас расплачусь, я это чувствую. Не уверена, что смогу долго сдерживаться!
— О, это да! Ты очень правильно сделала. Я его не знаю, но судя по тому, что я видела, — да лучше застрелиться!
Мама хохочет еще громче.
— Ты все-таки пошла до конца.
Маме хочется, чтобы все было правильно.
— О, что да, то да! Я пошла до конца и даже еще дальше! Знаешь, я, конечно, дура, но тут, честное слово, убедилась, что не последняя!
Это спектакль для мамы. Она хохочет, как на шоу одного актера. Я сижу напротив, лихорадочно ищу, что бы еще сказать. Я говорю чудовищные вещи — это по определению не может быть правдой. Но ей так хочется. И я стараюсь. Я боюсь пауз. Боюсь следующего вопроса. Вопроса, на который вынуждена буду наконец ответить правду. Я играю. Из кожи вон лезу, чтобы она ничего не заподозрила. Я вижу глаз циклона. Ну и заварили же они кашу.
Я достаю сигареты.
— Хочешь?
Мама кивает. Мы придвигаемся друг к другу. Мы близки как никогда: я развеселила ее. Я ее успокоила. Она довольна.
— Я все-таки немного боялась, — признается она, выдыхая дым.
— Ну и зря боялась! Я уверена, что, даже окажись вы на необитаемом острове, ты предпочла бы общаться с деревом!