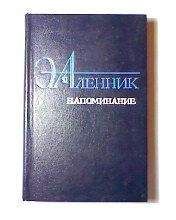Я добавила:
«Имей в виду, если ты полюбишь другую — ты и не заметишь, как я исчезну с твоего горизонта».
«А если ты полюбишь другого, — сказал Саня, — ты и не заметишь, как он исчезнет с твоего горизонта».
— Но это свинство, — спохватилась Нина. — Я все про нас, когда надо так много рассказать про Алексея Платоновича и Варвару Васильевну. Слишком по-разному они живут. Он каждый день делает людям столько! — и радуется тому, что делает. А она старается радоваться, очень старается. Нет, не так… Она как будто разделилась на две половины. За Алексея Платоновича радуется без всякого старания. За Саню тоже, а теперь даже можно сказать за нас. Но наша работа от нее далека. О делах Алексея Платоновича она знает, слышит о них, но никогда своими глазами не видела, потому что не может и не хочет видеть страданий и крови. (Потом расскажу, как я увидела!) А вторая половина ее жизни — это дочь и внуки. О дочери не буду говорить… Ну почему, откуда у таких родителей — такая дочь? Ее муж Усто куда человечнее. Увидит, какие битком набитые сумки тащит Варвара Васильевна, подбежит и выхватит. Но это бывает редко, он с утра уходит на этюды за город. Пока мы там жили — она тяжестей не носила, а теперь, конечно, опять носит.
А здоровенная Аня только и делает, что кормит свою малышку Маринку. Стоит ей пискнуть — сразу кормить, не обращая внимания на слова мамы, что так нельзя, что это вредно. Я поняла: она так часто кормит потому, что ее телу это приятно, и потому, что она кормит тем, что дано природой, оно в ней, заботиться об этом не надо.
Вот когда грудное кормление прекращается — кормит куда хуже. Это видно по мальчикам. Младший, Валерик — лицом копия Ани, — тот еще покрепче. Старший, Алька — слабенький, белесенький, некрасивый, — мне больше нравится: облюбует птицу или цветок и так долго, поглощенно разглядывает добрыми глазами. Алексею Платоновичу тоже больше по душе Алька — это видно. По Варваре Васильевне — ничего не видно. Тому, кто из них хуже, она никогда этого не покажет, будет винить во всем только себя. У нее такое чувство справедливости, что это уже несправедливо. Но все же Альку решено взять в Минск, если дадут сухую квартиру. Аня его совсем не замечает, он тихий, заброшенный и, наверное, часто некормленный. Вот такой дочери и старается мама радоваться. Днем она похожа на загнанную. Саня говорит, что за это лето она очень исхудала. Но всю тяжелую работу она делает до прихода Алексея Платоновича из больницы и при нем лучше выглядит.
По вечерам, когда дети уложены спать и Аня ужинает — она почему-то всегда ужинает отдельно и делго, — мы собираемся на террасе или в саду и о чем-нибудь интересном говорим…
До сих пор хозяйка слушала, не перебивая и разделяя эмоции Саниной жены. Но когда дело дошло до интересных разговоров под далеким, теплым небом, под персиковыми деревьями, где присутствовал Коржин, где были они все, и Нина, все-таки новый для них человек, а ее там не было, — в этом месте что-то впилось в сердце, ну прямо гюрза впилась. Пришлось опустить глаза, чтобы гостья не заметила, что так подействовала на хозяйку.
А гостья, поглядев на опущенные глаза, задумчиво проговорила:
— Жалко, что тебя там не было.
От этого «жалко» гюрза впилась еще сильней.
— Но Алексей Платонович тебя вспоминал, и Варвара Васильевна. Она все о тебе рассказала.
Тогда — другое дело. От этих слов Нины все стало на свои места. Можно было себя почувствовать никем не вытесненной и можно было с легким сердцем спросить:
— Какой разговор тебе особенно запомнился?
— Ну, например, тот, когда еще засветло мы пили чай на террасе и пришел Усто. Он осторожно держал за край подрамника свою свежую работу и повернул ее в нашу сторону. Когда ему нравилось то, что он сделал, он показывал. На этот раз был не этюд, была законченная картина: на песчаном холме стоял на редкость нежный, стройный — не мальчик, но и не взрослый узбек, в халате с лиловыми и голубыми полосами, и так красиво смуглой рукой протягивал нам розу. Ну полное впечатление, что нам. Он был босой. Ноги — тоже нежные, как у мадонны.
Алексей Платонович посмотрел и сказал:
«Неотразимой красоты юноша. Но… бездельник. Он будет на иждивении обожающих его».
Усто не обиделся, сказал, что это его не интересовало.
Его интересовала только гармония облика.
«А как вам?» — спросил он у Варвары Васильевны.
Она нехотя ответила:
«На мой вкус, он слишком томный… не мужественный».
Я вглядывалась в эту фигуру. Правда, все в ней струилось, в каждой линии была гармония. Но что-то было в ней мне неприятно. Даже неловко было, сама не знаю отчего.
«Нина мне что-нибудь скажет?» — спросил Усто.
Я очень глупо выпалила:
«Не понимаю я его!..»
А Саня сказал:
«Поздравляю, Усто. Из всего, что у вас видел, это самая тонкая живопись. Как вы назовете?»
«Я уже назвал: „Венец творения“. Подразумевается, что гармоничный человек — венец творения».
«Не чересчур пышно? — спросил Саня. — И по-моему, не совсем верно. А почему не цветок, не олень, не бабочка? Что, в них меньше гармонии?»
Теперь Усто обиделся:
«Ну, знаете! Не случайно бог создал по своему образу и подобию не бабочку, не оленя, а человека».
Саня сказал:
«Тогда объясните, почему человек рождается беспомощным несмышленышем, а бабочка рождается, зная, что ей делать. Новорожденная пчелка знает еще больше: ей известно, что надо делать для своего народа, то есть для своего улья. Ее никто не обучал, как проветривать улей, как его сторожить и чем свой народ кормить. Она сразу летит, иногда за несколько километров, садится на нужный цветок, достает из чашечки нектар и возвращается с ним к своему народу. Это расписание дел на общее благо известно ей при появлении на свет. Человека обучают всю жизнь, воспитывают, указывают, а он, как правило, до конца жизни не знает, что надо делать даже для своего блага. Так кто же венец творения?»
До этого Алексей Платонович листал какой-то журнал и как будто не слушал, что Саня говорит. Но вдруг отложил журнал и сказал:
«Вопрос поставлен серьезный. Полагаю, что дело было так. Бог начал мастерить человека и делал это вдохновенно. Но когда был готов гармоничный, ему подобный облик, у бога появилось великое опасение. К прискорбию, этот момент, определивший и объясняющий всю историю человечества, в Библии не зафиксирован. Посему придется изложить его не божественными, не апостольскими, а своими словами».
И Алексей Платонович потребовал:
- Прошу представить этот определяющий момент четко. Костно-сосудисто-тканевая часть себе подобного богом уже сотворена. Остается вдохнуть в него жизнь, а вместе с жизнью — духовную силу, дабы отличала она человека от всех прочих живых существ, которым велено плодиться и размножаться. Бог уже вытягивает губы трубочкой для вдувания жизни и духа. Но в это решающее судьбу человечества мгновение творца охватывает тревога. Его губы плотно сжимаются. Выпуск первого человека на свет задерживается. Бог думает: «Если я создам его внешне и внутренне себе подобным — у меня будет собеседник, мое божественное существование станет не столь одиноким. Но если человек появится точно таким, как я, — не будут ли все живые твари принимать его за меня? И не начнет ли сам человек чувствовать себя богом?.. А когда я сотворю ему жену, возвещу: „Плодитесь и размножайтесь!“ — появится много созданий, подобных мне телом и духом. Что тогда?!» Всемогущий божий организм содрогнулся от предугаданной перспективы. Сомкнутые губы сомкнулись еще крепче. Божье бездействие затягивалось. Венец творения безжизненно лежал перед ним. Он был прекрасен. Но, как все безжизненное, мог деформироваться. Надо было решать и действовать. И бог решил. Он снова вытянул губы трубочкой. Он дунул… Но с уменьшенной силой. Дунул с таким расчетом, чтобы дух божий то проявлялся в человеке, то рассеивался в ткани, и преобладающим оставался телесный состав, как у прочих тварей. И за эту неполную меру духовной силы, весьма неустойчивой, бог лишил человека того безошибочного инстинкта, какой даровал всему животному миру. Вот какую гигантскую каверзу бог сотворил с венцом творения.
«Ну разве можно сомневаться, что все было именно так?» — пошутила Варвара Васильевна.
А Усто, Алексей Платонович и Саня заспорили об инстинкте и духе. Как ни хотелось мне послушать, пришлось незаметно уйти мыть посуду, чтобы Варвара Васильевна — она стала такой оживленной — подольше с ними посидела.
— Понимаю, как трудно уйти, — посочувствовала более давняя знакомая Коржиных.
Нина посмотрела на часы:
— Ого, мне давно пора к своим, я обещала!
— А продолжение?
— В следующий выходной. Может быть, ты придешь ко мне?
— С удовольствием. С мужем можно, если будет свободен?
— Конечно. А почему он по выходным занят?