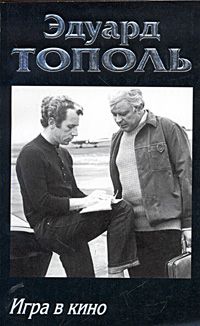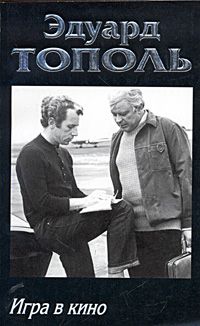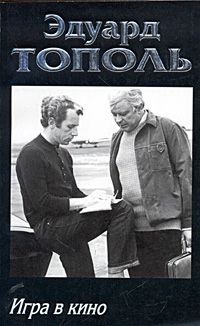Короче, я ужасно жалел, что, как красна девица, купился на рыцарски-кавказский жест упавшего на колени режиссера, и… через год написал по своему сценарию пьесу. Не буду описывать ее хождения по театрам — там, оказывается, главрежи в еще большей степени гении и принцы, чем режиссеры кино. Как заметил однажды Вампилов, в театр нужно приходить либо классиком, либо покойником. А если вы живой, да еще с первой пьесой, то, ухватив вашу пьесу, и главреж, и его жена — прима театра, и завлит, и еще хрен знает кто начинают душить вас в объятиях, уговаривая и заставляя переделывать и перелицовывать пьесу «под нашу сцену», «под наших актеров», «под наше видение» и «под возраст нашей ведущей звезды». При этом, конечно, вас всюду водят как новую надежду театральной драматургии, величают «нашим новым открытием» и т. д. и т. п., но все это только ради того, чтобы вы от них никуда не делись, а легли у подмостков их пыльной сцены и поставили свою пьесу пред ними в ту позу, которая ими наиболее любима для Любви с первого взгляда.
Тертый киношный калач, я, как безумный отец, дважды уносил свою девственную пьесу из-под венца двух ленинградских и московских театральных кумиров. Я решил: нет! пусть уж она останется в девках, но моя и такая, как есть, чем изуродованная ляжет под Владимирова или Захарова. И так бы оно, наверное, и случилось, если бы год спустя на каком-то семинаре театральных драматургов эту «Любовь…» не углядели составители очередного сборника молодежных пьес. А едва пьеса была опубликована, как ее сразу, даже не ставя меня в известность, стали репетировать два театра — Московский областной и Вильнюсский русский драматический. Однако я, и узнав об этих постановках, не явился туда ни на репетиции, ни на премьеры. Хватит с меня и киношных абортов, сказал я себе, не хватает мне еще и в театре получать инфаркты. Ведь видя, как очередной, теперь уже театральный, Эсадзе публично изгаляется над моим текстом, я, при моем кавказском характере, могу и на сцену полезть прямо посреди спектакля…
И только в 1978 году, когда лег на полку еще один мой фильм «Ошибки юности», а комиссия старых большевиков при Моссовете отказала мне в московской прописке, я, уже имея на руках разрешение на эмиграцию из СССР, вдруг ринулся в аэропорт, сел в самолет и полетел в Вильнюс. Да, милостивые господа, дрогнула моя душа, зачерствевшая в битвах с киношной судьбой, милицией, паспортным режимом, редакторами студий, цензурой и гениями советского кино. Я оставлял в России любимых женщин и женщин, которые любили меня, я оставлял в Баку своих родственников, но я не мог уехать в эмиграцию, не повидав перед отъездом — хотя бы инкогнито! — свою единственную пьесу!
Я прилетел в Вильнюс в день, когда в Вильнюсском драматическом шла моя «Любовь…». Прямо из аэропорта я приехал в театр. У парадного входа висела большая двухцветная афиша на дешевой желтой бумаге: «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА. Комические и драматические воспоминания в двух частях. Постановка И. Петрова. Художник В. Зюзькевич. В главных ролях…» Я постоял перед этой простенькой афишкой и направился в кассу. Хотя было всего три часа дня, кассирша сказала, что все билеты на сегодняшний спектакль проданы. Польщенный, я протянул ей красные «корочки» члена Союза советских кинематографистов, и она, не открывая их, тут же продала мне два билета в первый ряд. Зачем я купил два билета, я и сам не знал, но, нежа эти рыжие бумажки в своем кармане (я, автор, купил билеты на свой спектакль!), я отправился гулять по городу, который был свидетелем моего французского романа, моей дружбы с Донатасом Банионисом и моего платонического адюльтера с Ириной Печерниковой. Я прошел мимо оперного театра, где пять лет назад французы играли «Мнимого больного», я полюбовался издали на цэковскую, на горе, гостиницу, побродил по узким улочкам старого города, насчитал в нем ровно две рекламные тумбы с афишами Русского драматического театра и пообедал в ресторане гостиницы «Вильнюс», где когда-то, пять лет назад, ко мне через весь гостиничный холл бежала девятнадцатилетняя Вирджиния Прадал…
Теперь все это было в прошлом, я отрезал от себя эту страну, эту жизнь и эту профессию — я через десять дней уезжал совсем в другую жизнь, в страну под названием «Эмиграция». Да, матч окончен, господа присяжные заседатели, я сыграл свою игру в кино со странным счетом 3:2:2, где тройка — три неудачных фильма, первая двойка — «Юнга Северного флота» и «Несовершеннолетние», которые принесли мне успех, деньги и призы, а вторая двойка — «Любовь с первого взгляда» и «Ошибки юности», которые были запрещены как антисоветские и легли на полку. Стоили ли эти семь фильмов и эти две рекламные тумбы с афишами моей пьесы той цены, которую я заплатил за них, стоили ли они двенадцати лет бродячей жизни, недолюбленных женщин и нерожденных детей? Мне было ровно сорок лет, я бродил по теплому осеннему Вильнюсу, и хрупкие опавшие листья хрустели под моими ногами.
К семи вечера я направился к Русскому театру.
— Простите, у вас нет лишнего билета?
— Извините, у вас нет лишнего?..
Я врубился не сразу:
— Куда лишнего?
— В Русский театр. На «Любовь…».
Я не поверил своим ушам:
— В театр??!
На меня посмотрели, как на безнадежного олуха, и бросились к следующему прохожему:
— Простите, у вас нет лишнего?..
А я, слегка оглушенный, как боксер в нокдауне, подошел к театру. Здесь стояла толпа, билеты спрашивали у всех, кто приближался, а возле окошка администратора клубилась очередь студентов и студенток — за контрамарками. Я остановился, и на меня тут же, как осы, налетели какие-то люди:
— У вас нет лишнего? У вас не будет лишнего?
— Нет, — отвечал я, дурацки улыбаясь. — Лишнего нет. — И, сжимая в руке свои два билета, медленно оглядывался вокруг. Да, я уже знал, кому достанется мой второй билет, — той, которая будет стоять тут недвижимо и молча, ни у кого ничего не спрашивая и никого ни о чем не прося. Конечно, хорошо бы, чтобы — по законам советской драматургии — у нее оказались такие же васильковые глаза, как тогда, в знойное лето 1972 года, с которого началась эта «Любовь…».
Но такой не было — судьба не занимается клонированием и не делает нам дважды одних и тех же подарков.
Простояв до второго звонка, я подошел к высокой одинокой шатенке лет двадцати пяти и отдал ей свой лишний билет. Она попробовала вручить мне деньги, но я отвел ее руку:
— Не нужно. Это вам просто подарок. От девушки по имени Вета.
И ушел в театр.
Через пару минут брюнетка осторожно заняла место рядом со мной, косясь на меня с некоторым снобизмом, как на неудачливого влюбленного, к которому не пришла на свидание девушка по имени Вета. Но тут заиграла зурна, занавес взлетел вверх, и яркий, солнечный, знойный кавказский полдень опалил со сцены зал. Я не помню, каким волшебством художник добился этого эффекта, да еще практически без всяческих видимых усилий: просто стоял посреди сцены шест, на который была натянута бельевая веревка, а над сценой шатром нависал туго натянутый парусиновый задник, подсвеченный прожекторами до какого-то знойного, чуть ли не самаркандского свечения. И — все, никакой перспективы Баку, описанной мной в ремарке, никаких рисованных мусульманских мечетей, никакого южного моря на горизонте. Но атмосфера жары, зноя и родной, памятной мне с детства кавказской улицы уже плеснула мне в душу и заполнила зал. Потому что под этим небом-шатром сидели три женщины — одна месила тесто в тазу, вторая хлестко выбивала палкой шерсть, а третья стирала белье на стиральной доске в корыте. И первая женщина, стараясь перекричать громкозвучную зурну, говорила второй:
— Я тебе говорю: возьми лук, верхний кожу сними, надень на шампур и подержи над газом. Чтобы лук совсем мягкий стал. Потом возьми стрептоцид, насыпь на этот лук и положи своему сыну на глаз. А через три дня…
— Вай-вай-вай! Чему ты ее учишь? — вмешалась третья женщина. — Разве глазом лук можно терпеть? Честное слово, на нашей улице все умные! Не улица, а Большая энциклопедия! Сусана, слушай меня: возьми куриный помет, смешай с тутовой водкой и добавь холодного мацони…
Тут мимо них с криками: «Пасуй!», «Бей!», «Держи, Гога!» — пронеслась, играя в футбол, ватага подростков и великовозрастных парней. Кто-то из них на ходу задел корыто со стиркой, кто-то наступил на взбиваемую шерсть.
Женщина с шерстью отреагировала на это немедленно, криком, на самой высокой ноте:
— Идиот! Чтоб ты ноги поломал! Чтоб ты до конца своих дней за мячом на костылях бегал! Чтоб ты…
— Ну-ка перестань наших детей проклинать! — перебила ее женщина со стиркой. — Своего проклинай сколько хочешь, а наших не трогай! — И закричала за сцену: — Гога! Не пей холодную воду, иди домой! Клянусь своим здоровьем, я этот мяч порву на мелкие кусочки!