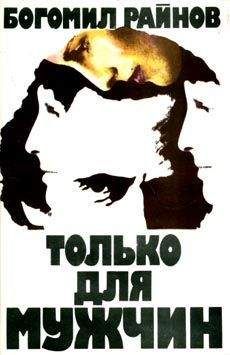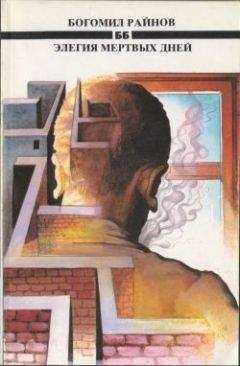– Как видите, я все еще здесь, – тихо произносит женщина и неловко усмехается.
– А ключ был внизу…
– Да, я бросила его в ящик – я больше не могла оставаться, особенно после того, как вы не пришли вчера домой. Я поняла, вы дали мне этим понять: вот что получается, из-за тебя и домой неохота возвращаться… В общем я ушла, чтобы поискать какой-то другой выход, но всюду натыкалась на каменную стену, и пришлось вернуться, позвонила – никто не отвечает, а тут как раз возвращался домой ваш сосед…
– Кто?
– Такой пожилой, солидный…
– А уборщица приходила?
– Приходила.
– И что же?
– Спросила, кто я такая. Пришлось сказать, что я новая уборщица. И она ушла.
Я молчу. Она сама догадывается, что я об этом думаю.
– Ничего другого мне не пришло на ум, – виновато говорит женщина. – Я решила, это единственный способ избавить вас от неприятностей.
– Единственный способ не этот.
– Знаю, но поймите, я в совершенно безвыходном положении. Как только представится малейшая возможность, я тут же уйду, обещаю. – Не дождавшись ответа и видя мою хмурую физиономию, женщина спрашивает: – Неужто он вам так нужен, этот чулан?
– Видите ли, этот чулан мне ни к чему. И будь у меня возможность вынуть его отсюда, я бы охотно отдал его вам в вечное пользование – кладите его на плечи и несите куда угодно. Только вы сами видите, что его не вынести отсюда, потому что он часть квартиры, и, поселившись в нем, вы добавляете мне забот, которых у меня и без того хватает. То одно, то другое, теперь вот отправили уборщицу – час от часу не легче! Как вам еще объяснить? Словом, чулан мне не нужен, но покой просто необходим.
Незнакомка слушает меня с полуоткрытым ртом, будто не ожидала, что я способен выдать столько фраз в один прием.
– Знаю, – повторяет она с тоской в голосе, затем поворачивается, забирает из чулана свою сумку и медленно идет к выходу.
В этой неторопливой, слишком неторопливой походке, кроме неподдельного уныния, видно что-то нарочитое. Маленькая сценка отчаяния, последняя попытка вызвать сочувствие. Мол, пойду куда глаза глядят.
Иди куда хочешь.
– Постойте, – бормочу я, видя, что она уже взялась за ручку двери. – К чему эти сценки?
– Сценки?
– Ну да. Нечего тут изображать отчаяние.
– Легко вам шутить, – говорит она, отпуская ручку.
– Не стойте там. Садитесь куда-нибудь.
Женщина берет стул, который кажется ей понадежней, а я усаживаюсь на кровать и закуриваю. Только теперь я сообразил, что следовало бы и ей предложить сигарету.
– Я было решила бросить курить, – неуверенно произносит она, но закуривает.
– Допустим, вы останетесь здесь еще на день-другой. Но у меня есть соседи… Может нагрянуть милиция… Я все же должен знать, кто вы и откуда?
– Я никого не ограбила и не убила. По части этого вы можете быть спокойны.
Она смотрит в упор своими черными глазами, словно желая убедить меня в своей искренности.
– И все же у меня такое чувство, что вы от кого-то или от чего-то скрываетесь. Неужто вам уж совсем не найти пристанища? Ведь жили же вы где-то до сих пор?
– Я жила у матери.
Она по-прежнему не спускает с меня прямого, откровенного взгляда.
– И что же? Может быть, ваша мать умерла?
– Для меня – да, хотя она жива и здорова. Я больше не могу к ней вернуться. И больше мне некуда идти. Но это только пока. Я уверена: в ближайшее время найдется какой-то выход.
– Будем надеяться. Но я даже не знаю, как вас зовут…
– Лиза. Полное имя у меня довольно длинное и ужасно старомодное: Елизавета.
– Это хорошо.
– Что хорошо?
– Что у вас длинное имя. Пока ваша матушка, разозлившись, произнесет его, у нее и гнев, верно, проходит.
– Как бы не так! Она, когда злится, хватается за сердце, кричит: «Умираю!» – и падает в обморок. Нет, я туда не вернусь.
Я не настаиваю. Женщина переводит взгляд – над кроватью висит вырезанная из «Плейбоя» картинка, на которой изображена пышногрудая девица. Это также наследство Жоржа, я до сих пор не догадался снять картинку со стены.
– Когда я увидела эту кошку…
– Это осталось от прежнего жильца, – поясняю я. – Меня кошки не интересуют.
Лиза молчит, смотрит по сторонам. Абажур-плевательница освещает лишь половину ее лица, белого и ничего не выражающего, другая же сторона остается темной и загадочной.
– Я готова все рассказать вам о своем житье-бытье, – неожиданно оповещает она безучастным тоном, – только не знаю, с чего начать.
– Лучше не начинайте.
– Вы сами спросили… – бормочет она, задетая моим равнодушием.
– Мне казалось, вы что-то скрываете. А если ничего не скрываете, зачем тогда и рассказывать?
И, чтобы дать понять, что разговор окончен, я встаю, беру оставленный у входа пакет с продуктами и начинаю выкладывать их на стол.
– Спасибо. Вы добрый, – слышу я у себя за спиной.
– Смотрите не перехвалите.
Лиза уже удалилась в чулан, когда я спохватываюсь. Обычно меня не так просто расшевелить, но потом я становлюсь догадливей. Постучавшись и услышав тихое «да», я просовываю в дверь голову. Лиза достала из сумки кусочек сдобы, основательно примятый и, вероятно, по твердости не уступающий слоновой кости.
– Это ваш ужин? – любопытствую я.
– При такой фигуре много есть вредно, – смущенно отвечает Лиза.
– Оставьте свой сухарь, – приказываю я. – Пойдемте поужинаем, как нормальные люди.
– Но ведь она ваша дочь!…
– В известном смысле – да, – отвечает Димов с каким-то надрывом.
Надрыв вызван не душевными муками, а физическим напряжением, поскольку в данный момент Димов силится сковырнуть ножом старую замазку с оконной рамы.
Эта операция производится не на том окне, что было разбито во время моего прежнего посещения, а уже на другом.
Застав Рыцаря за таким хлопотным делом, я предложил ему свою помощь, но он ответил: «Не беспокойтесь, мне не привыкать: ведь приходится вставлять новое стекло каждые два-три дня».
Я думал, Димов поинтересуется, с чем я к нему пожаловал, но он так увлекся работой, что пришлось мне самому объяснять. Лиза все еще оставалась у меня, соседи это знали, и назрела необходимость как-то легализовать ее пребывание в этом доме.
Удаление старой замазки довольно-таки муторная процедура. Высокий тощий старик стоит ко мне спиной, он весь сгорбился и, орудуя ножом, напряженно пыхтит.
– Я говорю, она же ваша дочь, – повторяю я.
– В известном смысле – да, – повторяет и Димов.
– По-моему, это понятие имеет только один смысл.
– Ошибаетесь, – отвечает хозяин.
Он отрывается от работы, разгибает спину, чтобы перевести дух, снимает очки и только тогда обращает взгляд в мою сторону.
– Вам бы следовало знать, что иногда самые простые вещи становятся очень сложными… Через три месяца после моего ареста моя жена отреклась от меня.
– Но дочь ведь не отрекалась.
– Не такая уж большая заслуга с ее стороны, если принять во внимание, что к тому времени ее еще не было на свете. Она родилась в самом конце установленного природой срока, так что, может быть, она моя дочь, а может, и нет.
– Она похожа на вас! – категорично заявляю я, как это бывает, когда мы не очень в чем-то убеждены.
– Вы первый обнаружили сходство. Ее внешность вряд ли может служить подтверждением… А что касается характера – ну, тут вам видней…
Рыцарь устанавливает очки на тонкой высокой переносице, и это позволяет ему бросить поверх них многозначительный взгляд.
– Если вам хочется объявить меня ее отцом, может быть, вы разрешите спросить: в силу каких обстоятельств она делит квартиру с одиноким мужчиной?
– Ваша дочь не делит со мной квартиру. Не знаю насколько вы в курсе, но наверху есть комнатенка, нечто вроде чулана, там она и живет.
– Впрочем, это ваше дело, – небрежно кивает Димов. – Единственное, что меня интересует: какие претензии лично ко мне?
– Требуется ваше согласие на ее прописку. Дочь, которая проживает с вами…
– Но она у меня не живет! – перебивает старик.
– Однако носит вашу фамилию.
Он опять смотрит на меня поверх очков, затем снимает их и сосредоточенно разглядывает стекла. Наверное, сейчас только дошло до него, что Лиза носит его фамилию.
– Что ж, ладно. Раз по милицейским законам она приходится мне дочерью, прописывайте, – уступает он наконец.
– Она ваша дочь по человеческим законам.
– С какой стати? – взрывается вдруг Рыцарь. – Почему я должен считать ее своей дочерью? Не потому ли, что у ее матушки были одновременно не один, а сразу два приятеля? Или потому, что эта так называемая дочь от рождения и по сей день, то есть почти за тридцать лет, даже не вспомнила об отце? Явилась, повисла у меня на шее… Скорее всего – по чисто квартирным или финансовым соображениям.
– А вы не горячитесь. Чего доброго я подумаю, что подобные соображения волнуют прежде всего вас, – спокойно говорю я.