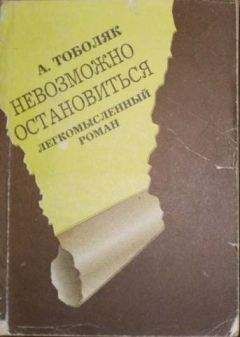Ну и почему я все-таки улетел? (А пиво хорошее. Вторая бутылка даже лучше первой.) Почему-таки лечу на довольно-таки большой высоте, в районе, предполагаю, хребта Сихотэ-Алиня? Что мне помешало сдать билет, купленный, кстати, без всяких усилий, по Илюшиному блату, и продолжать полеты с Лизонькой на тахте, — полеты телесные и умственные, на высотах, недосягаемых для воздушных судов? Не горел же я, в самом деле, желанием (о, простите, мадам, я, кажется, ткнул вас локтем!..) умножить доходы Аэрофлота? Нет же! Или так уж сильно стремился я попасть в сумрачные объятия матушки-Москвы? Нет же! Ведь очевидно, что ничего необычного не ожидает меня в столице. Так-таки ничего нового там не предвидится. Кремль стоит на месте, Красная площадь та же, что и была… разве что надумаю сдуру сходить в Мавзолей и взглянуть на давнего страшненького покойника… нет же! И появление мое в кооперативном издательстве совсем не обязательно, я вполне мог бы обойтись телефонно-почтовой связью, так ведь? так ведь, Лиза?
«Малеевка, — напоминает она. — Про Малеевку забыл». Правильно, Малеевка, Дом творчества. А что Малеевка! не та ли это Маниловка, сходная по звучанию и несбыточности грез? Может, ее и не существует, этой Малеевки! Правда, везу я в сумке ту самую начатую рукопись… не уничтожил-таки, не предал огню… надеюсь на реанимацию… Но равноценная ли это замена — живую Лизу на трупообразную Марусю?
«А родители? А братья? Ты же хотел их повидать», — опять напоминает Лиза, которая в курсе моих гипотетических материковских маршрутов.
Да, верно. Но сомнительно, ох как сомнительно (о, мадам, ради бога простите, что я опять ткнул вас локтем, но ваша туша так теснит меня!..) хватит ли у меня долларов, йен, рублей, наконец, на столь сложное, расточительное путешествие. Скорей всего, что… Что? Вы что-то сказали?
— Сколько можно дуть? Фу! Ведь дышать невозможно! — говорит золотоносная бабища, морщась, кривясь.
Ошибается. Дышать возможно. Остановиться невозможно — это да. Но что она понимает в сути движения, что? Конечно, движением (читай — жизнью) может стать что угодно. У нее это, по-видимому, равномерное накапливание жира, целенаправленное складирование денег в укромных домашних уголках, разработка ювелирных месторождений… тоже ведь не бессмысленно… пожалуйста… я разрешаю! Но меня-то зачем тревожить, летящего хоть и по соседству, но совершенно в иных небесных сферах! Помолчи, жирная мертвечина! Сиди, дыши, радуйся, что жива, прислушивайся к своему пищеварению, планируй московские покупки, а Теодорова-путешественника не трожь! Дабы он не рассердился. А я уже разозлился. А зачем? Напрасно. Надо пожалеть ее, посочувствовать ей, неудачнице. Может, пощекотать ее под мышкой? — мелькает у меня мысль.
— И что вы, мужики, в этом пиве находите? — продолжает она пыхтя.
Ага, привязывается. Никак, хочет поговорить. Вот уж нет! Извините. У меня есть собеседница.
— Сейчас усну, — обещаю я и отворачиваюсь к иллюминатору. Да, лечу, нет сомнения. Внизу медленно перемещается вздыбленная земля, необитаемая, незаселенная. Я тебе так скажу, Лиза. Полет этот изначально безнадежен. Как не похож он на те стародавние, под полярными звездами, — вдохновенные, страстные полеты над лиственничной пустошью и ледовитыми просторами, когда молодой Теодоров… нет, не надо травить душу! Не надо этих бередящих контактов с собой прежним! Лечу и лечу. Улетел-таки и улетел. «А ты останешься в квартире, поживешь здесь?» — спросил я Лизу, укладывая дорожную сумку. «Нет уж, черта с два! — наотрез отказалась она. — Еще чего! Чтобы встретиться здесь с твоими пассиями!» (Читай — сучками.) Ну что ж! Я не стал спорить. Я отключил воду, вырубил свет, накрошил в блюдечко хлеба для домашних тараканов, чтобы, значит, не вымерли от голода… прикрыл для плотности дверь на свернутую газету… и мы спустились вниз, а на автобусной остановке распрощались.
«Смотри, не балуй без меня», — сурово предупредил я Лизоньку, обнимая ее.
Мне показалось, Лиза, или действительно что-то такое… какая-то мерцающая влага проступила на зеленых глазах твоих?..
— Мужчина! — Гражданин! — Пассажир! Любой проснется от таких — на разные лады — призывов.
Проснулся и я, мужчина, гражданин, пассажир. И что же я вижу, что ощущаю? Мы уже не летим, а стоим прочно и косно на бетонной земле. Вот как умеет усыплять меня Лизонька, а вообще-то не типичен для Теодорова такой глухой и мертвый сон на борту воздушного судна.
— Вы куда летите? — спрашивает, стоя в проходе, рослая, хмурая стюардесса.
— До конца, — отвечаю я двусмысленно. Пусть сама решает, что я имею в виду — конечный пункт данного рейса или предел своего земного существования.
— Можете оставить сумку, — говорит она, чуть смягчаясь от моей улыбки.
— Нет уж; девушка, — возражаю я. — В ней вся моя скромная наличность.
Пожав прямыми плечами, она идет по проходу, а я поспешаю за ней. Круп у девушки выдающийся… да, Лиза, это надо признать, но нет в ней легкости и стремительности твоих обводов.
Автобус подвозит нас, граждан и пассажиров, к калитке в железной ограде, и вместе со всеми я выхожу на просторную площадь. Итак, город Красный Яр. Приветствую тебя, город Красный Яр. Давненько не встречались, ох давненько. Сколько же лет минуло с тех пор, как… Ну-ка давай припомним, ведь все равно не избежать контактов с прошлым, как ни старайся. Последний раз… когда же?.. да, в тысяча девятьсот аж семьдесят восьмом году. В ту пору молодой и деятельный Теодоров перекочевывал с северных широт в предгорья Памира, от эвенков и якутов к киргизам и узбекам. И было мне тогда, следовательно, двадцать восемь годков. Как быстро, однако, промелькнуло почти полтора десятилетия… как долго, однако, тащилось! Какая, Лиза, даль времени… ты только пошла в школу… и какая-таки близь! Вряд ли узнает меня славный город Красный Яр. Да и мне, Лиза, незнаком этот аэропорт, эта площадь, эти многоэтажные окрестности… без меня построены и обжиты. Озираюсь, закуриваю, растерянно улыбаюсь. Странно-то как, знала бы ты, возвращаться туда, где даже тени твоей не сохранилось… никаких намеков на твое былое присутствие… разве только в памяти знакомых осталась легкая рябь воспоминаний. А не позвонить ли кому? не напомнить ли о себе? Не восстановить ли хоть на краткий миг былое? Так думаю, щурясь от сильного солнца, растерянно улыбаясь.
Да, есть смысл, есть! В этом мире, как известно, немом и спешащем, не хватает нам, как известно, уз и связей. Отщёлкнув окурок в урну, я вхожу в здание аэропорта.
Тут, Лиза, дорогая, писателя Теодорова подстерегает неожиданность. Я подчеркиваю слово «писателя», нагло настаиваю на нем. Потому что с продавцом Теодоровым, с программистом Теодоровым, с банщиком Теодоровым (любую профессию возьми!) ничего бы не случилось, а писатель Теодоров, хоть и плохонький, хоть и хиленький, подвержен, как ты могла, наверно, убедиться, превратностям судьбы. Стоял бы я на площади, курил бы мирно — и все бы обошлось. Но меня понесло к телефонам-автоматам. А навстречу мне идет… кто бы ты думала?.. «Твоя старая знакомая сучка?» Нет, Лиза, ошиблась. Навстречу мне преспокойно движется невысокий, черноволосый, широколицый гражданин с «дипломатом» в руке. Всего-то! Но сердце мое дает сильный сбой. Это несомненно Коля Ботулу. Несомненно Коля. Несомненно Ботулу, как ни старается он выглядеть кем-то другим, непохожим на прежнего Колю Ботулу, — куда старше, чем тот, куда солидней. Себя-то он, конечно, может обмануть! Но меня не введет в заблуждение это широкое узкоглазое лицо, эта важная походка с разворотом ступней, эта чванливая нижняя губа, надвинутая на верхнюю, темный, строгий костюм, галстук, «дипломат»… Все равно это Коля, все равно Ботулу, житель крошечной эвенкийской фактории Харпичи, где я…
— Коля! — негромко окликаю. (А мог бы промолчать, мог бы!) Он останавливается. Мы смотрим друг на друга. Узкие глаза Коли пока ничего не выражают.
— Не узнаешь, что ли? — спрашиваю я, улыбаясь, волнуясь.
— Однако узнаю, — произносит он. — Ты Юрка Теодоров, журналист. Правильно?
— Правильно, Николя! Угадал. Я Юрка Теодоров, журналист, — улыбаюсь я еще шире, шире широкого, бескрайне широко, как нормальные люди никогда не улыбаются.
— Здорово! — говорит Ботулу с озаренным лицом.
— Здравствуй. Обнимемся, что ли?
— Ага! Давай, — соглашается он. И вот уже мнет мне плечи руками, сочно целует, шумно сопит мне в ухо. И я его обнимаю и целую.
— Хорошо, — говорит он, отстраняясь, утирая губы тыльной стороной ладони, — что мы встретились.
— Очень хорошо! — вторю я.
— Мы давно с тобой, Юрка, не встречались. Много лет. Теперь встретились.
— Да, Николя, встретились.
— Ты меня узнал, а я тебя сначала не узнал.
— Я тебя сразу узнал. Издалека.
— А я не узнал. Ты, Юрка, другой стал.