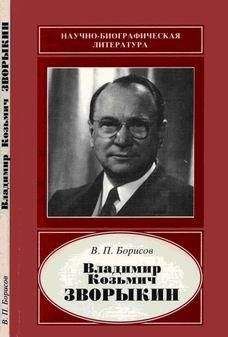Леонид Зорин - Трезвенник
На электронном книжном портале my-library.info можно читать бесплатно книги онлайн без регистрации, в том числе Леонид Зорин - Трезвенник. Жанр: Современная проза издательство неизвестно, год 2004. В онлайн доступе вы получите полную версию книги с кратким содержанием для ознакомления, сможете читать аннотацию к книге (предисловие), увидеть рецензии тех, кто произведение уже прочитал и их экспертное мнение о прочитанном.
Кроме того, в библиотеке онлайн my-library.info вы найдете много новинок, которые заслуживают вашего внимания.
Название:
Трезвенник
Автор
Жанр
Издательство:
неизвестно
ISBN:
нет данных
Год:
неизвестен
Дата добавления:
12 декабрь 2018
Количество просмотров:
655

Леонид Зорин - Трезвенник краткое содержание
Леонид Зорин - Трезвенник - описание и краткое содержание, автор Леонид Зорин, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки My-Library.Info
Род. в г. Баку в семье служащего. Окончил филол. ф-т Азербайджанского ун-та (1946) и Литинститут (1947). Был членом КПСС (с 1952).В возрасте 10 лет выпустил кн. стихов (1934), став героем очерка А.М.Горького “Мальчик”. Наиболее известен как драматург — автор пьес: Соколы (поставлена Бакинским русским драмтеатром в 1941); Молодость (поставлена Малым театром в 1949); Вечер воспоминаний (1951); Откровенный разговор (поставлена Московским театром драмы в 1953); Гости (поставлена Театром им. Ермоловой в 1954; режиссер А.Лобанов); Алпатов; Чужой паспорт (1957); Светлый май (поставлена ЦАТСА в 1957); Добряки (поставлена ЦАТСА в 1958); Увидеть вовремя (1960); По московскому времени (1961); Друзья и годы (поставлена МХАТом и Ленинградским театром драмы им. Пушкина в 1962); Палуба (поставлена Московским театром им. Станиславского в 1962); Энциклопедисты (поставлена Московским театром им. Станиславского в1962); Римская комедия (спектакль, поставленный Г.Товстоноговым на сцене БДТ в 1964); Серафим, или Три главы из жизни Крамольникова (1965); Варшавская мелодия (1966); Декабристы (1966; поставлена Театром “Современник” в 1967; режиссер О.Ефремов)); Коронация (1967); Незнакомец (1976); Театральная фантазия (1970); Медная бабушка (1970); Мужчины и женщины; Транзит (1972); Стресс (1973); Царская охота (1974); Покровские ворота (1975); Измена (1979); Это беспощадное искусство (1980); Карнавал (1982); Счастливые строчки Николоза Бараташвили (1985); Цитата (1985; поставлена Театром им. Моссовета в 1986); Пропавший сюжет; Максим в конце столетия (поставлены Театром им. Моссовета и Ленинградским театром им. Комиссаржевской в 1987); Союз одиноких сердец (1991); Граф Алексей Константинович (1992); Московское гнездо (1994); Перекресток. Варшавская мелодия-98 (1998). Пьесы З. собраны в кн.: Покровские ворота. Пьесы. М., 1979; Избранное. Драматические повести. В 2 тт. М.,“Искусство”, 1986 (предисл. Б.Зингермана). Написал сценарии кино- и телефильмов: Человек ниоткуда (1959; режиссер Э.Рязанов); Мир входящему (1961; режиссеры А.Алов и В.Наумов); Друзья и годы; Покровские ворота (режиссер М.Козаков). Публикует также прозу — кн.: Это беспощадное искусство. М., 1980; Старая рукопись. Роман, повести, рассказы. М., 1983; Нервная жизнь. Рассказы. М., 1983; Осенний юмор. М., “Московский рабочий”, 1986; Странник. Роман, повесть. М., “Сов. писатель”, 1987; Закаты. Рассказы. М., “Правда”, 1988; Покровские ворота. Повести и романы. В 2 тт. М., 1993. Опубликовал воспоминания: Авансцена. Мемуарный роман. М., “Слово/Slovo”, 1997 (предисл. М.Швыдкого), и записные книжки: Зеленые тетради. М., “НЛО”, 1999. Публиковал воспоминания в ж-ле “ИК” (1991, № 9; 1992, № 9; 1993, № 5)Член СП СССР (1942), Русского ПЕН-центра.Награжден орденами "Знак Почета", Дружбы народов (1986). Лауреат конкурсов на лучшую комедию (1977). на лучшую пьесу о деловых людях России (1995), Всероссийского конкурса драматургов (1996). Премии "ЛГ" (1975, 1982), ж-ла "Крокодил" (1983), фонда “Знамя” (2001).
Трезвенник читать онлайн бесплатно
Трезвенник - читать книгу онлайн бесплатно, автор Леонид Зорин