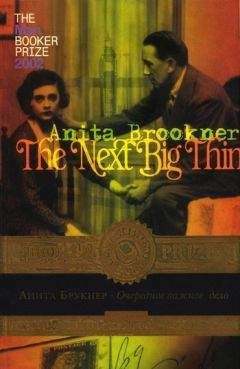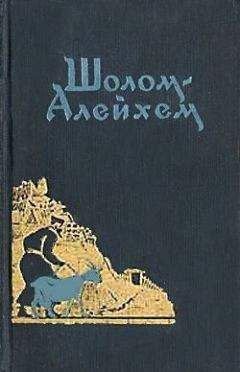— Ну, ну, Юлиус.
— Если бы мы остались в Германии, я пошел бы учиться, приобрел профессию, стал джентльменом, как мой отец когда-то. Я своих квартировладельцев воспринимаю как гонителей и обездоливателей: тень прошлого, надо думать. И все же эта страна была ко мне добра. Единственное, что я все равно не чувствую себя здесь как дома. Именно поэтому я сейчас так переживаю: маленькая проблема постоянного адреса кажется непомерно сложной. В моем возрасте вообще не может быть ничего постоянного. И конечно, я буду очень вам признателен, если вы для меня все это сделаете. Я буду счастлив оставить все в ваших руках. Если, конечно, вы не слишком заняты.
— Я выясню, что тут можно сделать. Не удивляйтесь, если не получите от меня скорых известий. У меня сейчас свои заботы появились. — Лицо его приняло выражение полуиспуганное, полуудовлетворенное. — На самом деле у меня две проблемы. Первая — Элен хочет, чтобы мы поженились. Вторая — я встречаюсь с другой.
— О господи. — Его восклицание прозвучало так прочувствованно, что пришлось добавить: — А разве нельзя остаться с обеими?
— Увы, нет. Обе очень хорошо подкованы по части обязательств, как они это называют.
— Звучит слишком уж по-адвокатски.
— А я хочу немного свободы. — Саймондса прорвало. — Я думал, что мы с Элен понимаем друг друга…
— Вы уверены, что хотите свободы? Свобода — палка о двух концах. Без обязательств человек часто делает меньше, а не больше.
— У меня есть обязательства, — возразил Саймондс. — Я профессионал в своем деле.
— Я бы на вашем месте женился. Когда есть к кому возвращаться по вечерам, это важно.
— Как раз о моих вечерах неплохо позаботились. Думаю, это я могу сказать, не опасаясь впасть в противоречие.
Герца встревожил боевой тон этой последней реплики.
— Вы влюблены, разумеется. Любовь и свобода несовместимы, хотя кажется, что свобода маячит за каждым новым всплеском чувства. Это иллюзия, Бернард, — я имею в виду свободу. Нет такой вещи. Теоретически я свободен. И однако, если я изменю имя, перееду в другую страну — а я могу сделать то и другое, — я не стану от этого свободным, хоть сколько-нибудь свободнее, чем теперь. Вы, с другой стороны, свободны жениться, как и всегда были. Вот только выбор у человека есть не всегда. А свобода, в конце концов, заключается в наличии выбора. Я вижу, вас расстраивает ваша влюбленность, но ведь так всегда бывает. Иногда эмоции, которые приходят с новым человеком, так оживляют. И так запутывают. Собственные привязанности постепенно выходят на первый план. Ваша новая подруга действительно вас любит?
— Я думаю, да.
— А по-моему, больше ценится преданность. Она намного важнее верности. В смысле, супружеской верности. Наверное, вы должны быть преданы Элен?
— Она мне не облегчает положения.
— А почему она должна? Женщины обычно больше стремятся к постоянству, чем мужчины. Об этом написаны тома книг; в Америке на этом вырастили целую промышленность. Я подобрал на днях чью-то газету и прочел там статью на эту тему. С продолжением. — (На самом деле он просто-таки проглотил эту статью, пока не было никого, кто бы его увидел, и почти уже решил купить следующий номер, но появление в саду детей привело его в чувство.) — Видимо, будет самая настоящая несовместимость. Еще кофе? — Он задумался, как бы так потактичнее вернуться к обсуждению своих собственных дел. Он понимал, что его слова обидели Саймондса. — Нет, нет, позвольте мне. Я настаиваю, — сказал он, когда принесли счет.
Саймондс посидел, нахохлившись, потом встряхнулся.
— Я с вами свяжусь, — пообещал он. — Просто потерпите немного. Мой вам совет, возьмите отпуск. — Это ему говорили все. — Или покажитесь врачу. Приведите себя в боевую форму. Вы знаете, вы очень исхудали.
— Это все грипп. Я совершенно в порядке, правда. — Но он знал, что это не так. Он часто начинал задыхаться в эти дни, поэтому и проводил время в таких спокойных занятиях. В пустом саду, одетом туманом, никто не мог увидеть, что он кладет руку на сердце, слушая, как учащенно и иногда неровно оно бьется. Он это приписывал своему недавнему волнению, которое приняло облик физического недомогания, словно для того, чтобы и дальше его терзать. Даже сейчас он торопился домой, на случай, если его возрастающая тревога станет проявляться во внешних признаках. Он спокойно заплатил по счету, добавил, как обычно, крупные чаевые, и теперь надеялся побыстрее найти такси.
— Как вы сейчас поедете? — вежливо спросил он.
— На метро. О, между прочим, тут вам пришло письмо. Очевидно, кто-то думает, что вы так и живете на Хиллтоп-роуд. Я должен был вам его переслать. Вы правы, я пренебрегаю своими обязанностями.
У него был такой удрученный вид, что Герцу захотелось его обнять. Вместо этого он похлопал его по руке и сказал:
— Я вам страшно благодарен, Бернард. Как всегда. Давайте снова встретимся в ближайшее время.
Он, не разглядывая, положил письмо в карман. Облегчение от того, что можно вернуться домой, было настолько велико, что он забыл о нем, пока легкий шелест, когда он снимал пальто, не напомнил ему выложить письмо на стол. После этого на первый план вышло более важное дело: лечь в постель. Письмо подождет. Ничего срочного в нем быть не может. Едва ли письмо, посланное на Хиллтоп-роуд, имеет отношение к его настоящему шаткому положению. Не в первый раз он пожалел об этой, почти фамильной, квартире, столь отличавшейся от убогого жилища, которое было у них затем и последним олицетворением которого была квартирка на Чилтерн-стрит.
Шум дождя пробудил его от краткого, но глубокого сна. Он посмотрел на часы: два тридцать. По опыту он знал, что его ночь на этом закончена, и в тот момент решил снова пойти к тому же бесчувственному доктору и попросить его выписать снотворное. Эти темные часы слишком способствовали неприятным размышлениям. Ему на удивление не хотелось спать, и вообще было не по себе. Это ощущение неловкости было результатом разговора с Бернардом Саймондсом и, главным образом, его собственной ролью в этой беседе. Тон его был и легкомысленным, и назидательным — верная примета невнимательного слушателя. Но он не был невнимателен: он был осторожен, отказываясь участвовать в обсуждении чужих любовных дел или просто чьих-либо. Эти вопросы больше не для него, и все же он распознал горячечное состояние собеседника, тот жар, которым пахнуло, когда тот развернул свои мандаты: не одна женщина, а целых две! Саймондс почувствовал, что Герц, даже сквозь усталость и брезгливость, молча его поздравил. И это придало его ханжескому морализаторству двусмысленность. Если бы он был способен пробиться через сдержанность, которая обычно была ключевой нотой этих встреч, он убедил бы Саймондса повиноваться инстинктам, оставить в прошлом хорошее поведение и диктовать свою волю сразу обеим — и долговременной подруге, и новой возлюбленной. Тогда ему, возможно, удалось бы достичь той идеальной свободы, которую так старались очернить умные рассуждения самого же Герца.
Собственные представления Герца о свободе, основанной на самых высоких предписаниях, недавно подорвала та краткая вспышка. Он нашел те же симптомы у Саймондса, но считал, что нельзя давать власть тому, что так нетерпеливо ожидало его сочувствия. От него требовалось сочувствие. Он должен был выслушать это признание с вежливым уважением; вместо этого он предпочел скрыться под маской непоследовательного старика, цинизм которого соперничает с никчемностью. Само выражение его лица, наверное, говорило о нежелании никого выслушивать, хотя он знал, что был таким же серьезно-внимательным, как всегда, и только чуть менее хладнокровным, чем ему бы хотелось. Главной его реакцией было нетерпение, нетерпение, которое теперь окутывало темную комнату, настенные часы и все прочие атрибуты столь продуманной среды его обитания, которая теперь оказалась под угрозой. Он хотел бы написать Саймондсу записку, извиниться за то, что был так поглощен своими заботами, но знал, что этого не сделает, ведь это еще больше усугубило бы его провинность. Он также хотел бы в этой самой несостоявшейся записке напомнить Саймондсу, что вопрос его арендного договора должен стоять выше любых эмоциональных катаклизмов, но знал, что и этого он тоже не будет делать. Он будет молча ждать, как развернутся события, поскольку именно этого от него ожидают. Он снова пригласит Саймондса пообедать вместе уже в начале нового года, и тогда-то уж будет следить за собой, не позволяя себе опрометчивых заявлений, и даст Саймондсу полное право потворствовать своей собственной опрометчивости. И этого от него также ожидают.
Шел дождь, когда на следующий день он отправился в приемную врача на Пэддингтон-стрит, как раз неподалеку от городского сада, который, скорее всего, будет открыт в это темное утро и те, без сомнения, темные утра, которые придут следом. Рождество отметит самую нижнюю точку года, после начнется очень медленный подъем к свету. Он немного помечтал о бегстве: вновь его мысленному взору предстал тот абстрактный сад с медленно прохаживающимися парами, но он знал, что это лишь плод его фантазии. Еще перед ним мелькнуло краткое, ни с чем не связанное воспоминание о хрустальном блюде, на котором его мать когда-то подавала субботний шоколадный торт. Эти проблески памяти, всегда спонтанные, приводили его в восторг и отвлекали от обычных монотонных раздумий. Они являлись днем, при ярком свете, а не ночью, когда его бессонница мистическим образом передавалась рациональным мыслям. Из этого он сделал вывод, что ночные часы для чего-то нужны, и решил воздержаться от визита к доктору: снотворное может и подождать. В любом случае, ночи приносили меньше хлопот, чем дни, которые могли быть испорчены плохой погодой. Он вернулся той же дорогой, теша себя воспоминанием о том стеклянном блюде и о тех далеких субботах и воскресеньях в Берлине, когда в дом приходили друзья. Он теперь понял, что привязанность матери к Бижу Франк была попыткой восстановить эту традицию, от которой ничего не осталось. Дома он постановил себе провести день в четырех стенах, что раньше всегда вызывало в нем тревогу. На столе он увидел письмо, которое Саймондс отдал ему накануне, но вместо письма снова взял в руки томик Манна и благодарно погрузился в такой памятный, такой до мелочей знакомый пейзаж, в буржуазное прошлое.