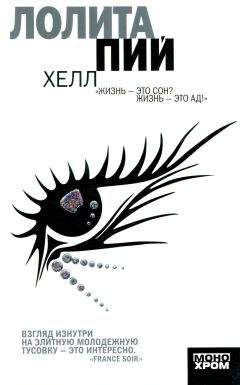Я спятила, по мне психушка плачет.
Всего этого никогда не было.
А где-то, наверное, в глубине моей души, того бездонного «я», о котором я до этого момента и не подозревала, еще звучала, словно очень издалека, эта проклятая музыка из «Полуночного экспресса».
Глава 14
Ноктюрн ми минор ор. 48 № 1
ДЕРЕК. Под моими пальцами клавиши рояля, и я не могу извлечь из них ни звука. Я трясусь как одержимый, одержимый всем тем злом, какое во мне есть и какое я не в состоянии выразить. Мне чего-то не хватает, сам не знаю чего. Беру минорный аккорд. Красивые они, чужие аккорды. Смешно, но в этом ночном кабаке на меня только что смотрели с завистью. Ноты разлетаются у меня из-под рук, я вливаю в себя стаканчик виски, чтобы держаться, за окном никак не рассветет, спать я не хочу. Ночь темно-синяя, почти черная, и в лакированной крышке рояля отражается моя чертовски гнусная рожа. Вид дикий. За окном никак не рассветет. В этот час невозможно спрятаться от самого себя. Все люди с чистой совестью отдыхают, а я оплакиваю свою участь, извлекая из клавиш не свои, отторгающие меня звуки. Шопеновскую мелодию, ноктюрн, который я люблю, потому что он напоминает мне похоронный марш. В черноте лакированной крышки виден еще и мой безжизненный номер, моя пустая кровать, люстра больше меня, безжалостный блеск безупречно натертого паркета, бесконечная череда моих сгорбленных спин в зеркалах, стылый камин и Вандомская колонна, и меня тошнит. Я вижу все, что потерял. Рассвет. Человеческие лица. На самом деле, ничего особенного. Музыка светла и не выразима словами, а я мрачный и одурелый и буду играть, пока не рухну. В воздухе витает бесконечность, я протягиваю руки, чтобы схватить ее, музыка смолкает, и бесконечности больше нет. Не хочу, чтобы музыка смолкала. От нее исходит свет потерянного рая, синева воспоминаний, и я закрываю глаза, и я брежу, раскачиваясь в медленном ритме всего, что исковеркал и утратил. Спрашиваю себя, где те, кого я любил, и гляжу на паркет. Спрашиваю себя, когда все это кончится, и наверное — наверное, потому что никогда нельзя знать наверняка, — мне осталось меньше лет жизни, чем клавиш на рояле. И я почти этому рад.
МАНОН. На голове у меня диадема, и весь этот свет слепит глаза. Мне до смерти жарко. Я говорю: «Спасибо за то, что вы пришли». Говорю: «Спасибо всем!» Сжимаю статуэтку в руках и говорю: «Не люблю речей». Я говорю о связях между Францией и Штатами, говорю, что искусство и культура не знают границ, говорю, что мы все большая семья — большая семья кино. Упоминаю мир во всем мире, и как я счастлива, что мне выпало работать с господином Карениным. И как, должно быть, счастлива моя мать, там, на небесах. Говорю: «Спасибо за этот «Оскар»!» А потом начинаю реветь и роняю щетку для унитаза. Отвожу глаза от неоновых ламп вокруг зеркала в ванной… Всхлипывая, говорю: «Спасибо, спасибо», и подскакиваю. Передо мной мое отражение. Бриллианты на голове поддельные, но все-таки блестят. Две дорожки туши на впалых щеках. Волосы у плеч платиновые, на висках — цвета мочи, а корни черные… Только что Скот в ресторане потребовал, чтобы я что-нибудь сделала с волосами. «Вид как у последней шлюхи с окружной, — добавил он, — клиенты в ужасе, имидж есть имидж, в понедельник ты брюнетка, или вылетишь за дверь, может, думаешь, роли на тебя будут сыпаться с твоим обдолбанным видом?»
Я подсчитываю чаевые за сегодняшний вечер. Не бог весть что. Три купюры по десятке, пять по пятерке и еще эта чертова мелочь. К парикмахеру пойду завтра. Нет сил смыть макияж. Принимаю две таблетки стилнокса, чтобы отрубиться.
Похоже, человек ко всему привыкает, даже к мысли, что он сошел с ума. Лиза, одна из официанток Trying, два года училась на психолога. Бросила учебу ради карьеры модели. На самом деле эта карьера свелась для нее к двум низкопробным каталогам, телерекламе пищевых заменителей и нескольким разворотам в журналах. В Trying она «подрабатывала на мелкие расходы». То есть это она так говорила, но никаких крупных расходов у нее не было, и заработки уходили на оплату счетов за квартиру. Классический случай. Я ловко расспросила ее. Иными словами, рассказала свою историю, как будто бы она случилась с «одной подружкой». Никакой подружки у меня не было, да и сам этот прием затаскан до дыр, но Лиза не случайно бросила психологию ради модельного бизнеса. Она отвечала на мои вопросы очень охотно и даже вполне по делу, ни на миг не заподозрив, что эротоманка-шизофреничка, «реально спятившая, по ней психушка плачет, смирительная рубашка, одиночка, электрошоки и все такое» работает с ней вместе в Trying.
Значит, я эротоманка, я взлелеяла в себе что-то вроде страсти к Дереку, к образу Дерека, и считала, что мне отвечают взаимностью. А еще я шизофреничка, и в каком-то потаенном уголке моего больного мозга выдумала эту жизнь, нашу жизнь, и в основе моего безумия лежит сущий пустяк: я не способна отличить фантазм от реальности.
Впрочем, это было не важно, по-моему, лучше быть чокнутой, чем горбатой. В этом мире быть чокнутым почти классно. Мне было наплевать с высокой башни, что по таким, как я, плачет психушка, покуда я вешу меньше сорока пяти кило. И если теперь по вечерам я в одиночестве тупо сидела дома и слушала «Лунную сонату», любовно поглаживая бритвой выступающие вены на запястьях — «Резануть? Не резануть?», — то не столько от отчаяния из-за «неспособности отличать фантазм от реальности», сколько для того, чтобы от этой самой грязной реальности убежать.
Реальность — это прежде всего изгнание, ссылка посреди Парижа, того Парижа, который был моим и который теперь стал запретным: я чужестранка в родном городе, потерявшая от него ключи. Теперь мой Париж — это сплошные враждебные улицы и безымянные лица, ненавистный ресторан, где я зарабатываю на жизнь, несколько сомнительных кафешек с продранными стульями, моя берлога под самой крышей.
И я бродила по Монмартру и Елисейским Полям, по Вандомской площади и улице Сент-Оноре, и воспоминания всплывали у каждого фасада, у каждой витрины, у каждой запертой двери, и я молила невесть каких богов снова открыть мне доступ туда, снова вернуть мне жизнь. Я была точно старая актриса, что возвращается в театр, берет билет на балкон и, исходя желчью от досады и бессилья, смотрит в темноте пьесу, в которой когда-то играла главную роль. Она шепчет про себя реплики, угадывает по движениям занавеса брожение за кулисами, она знает эти кулисы как свои пять пальцев, знает терпкий, горячий запах вечерней премьеры и вспоминает свою уборную, зеркало, аплодисменты, страх перед выходом на сцену и букеты цветов, но на дверях значится чужое имя, а вахтер, которого она видит в первый раз, только что не пустил ее со служебного входа. Однако вахтер сидит на своем месте уже лет сорок, он тут родился и тут умрет, но ее не узнал. И эта пьеса — ей кажется, что она знает ее наизусть, а ее только что написали, и в этот вечер идет премьерный спектакль. А что до уборной, то, как ни смешно, никто никогда не видел на дверях ее имени, иначе бы кто-нибудь вспомнил. На самом деле это сумасшедшая старуха, и она никогда в жизни не выходила на сцену. Она мнит себя Джиной Роулэнде в «Премьере», она шизофреничка, истеричка, полоумная, она закрывается шарфом, притом что прятаться ей незачем, она всю жизнь прожила в безвестности и теперь, когда ей больше нечего терять, а дни ее сочтены, может наконец оторваться по полной.
Она не изгнанница, не бывшая звезда, просто ее никогда не существовало.
Меня тоже.
А еще был Дерек, и об этом я предпочитала даже не думать.
Реальностью снова был голод. Самый страшный голод, страшней, чем на Конечной, страшнее, чем голод, какой был со мной всегда: это был пост после оргии. Ведь оргия была, не важно, воображаемая или нет, она казалась вечной и вдруг закончилась, и жрать стало нечего.
Реальностью был мой чердак под самой крышей, почти не отапливаемый, грязный, убогий, с низким потолком, облезлыми, местами почерневшими обоями, окнами без занавесок, грубыми простынями, ледяной водой, сортиром на лестнице и сочащейся сквозь стены вонью дешевого варева с кухни нищих соседей. Реальность — это вставать на рассвете, дрожа от холода, и с тоской думать, что меня ждет моя поганая работа, и с тоской знать, что ничего другого меня больше не ждет, только поганая, неблагодарная, унизительная, убийственная работа до конца дней, вставать на рассвете и мерзнуть под душем, и пить отвратный кофе в запахе остывших бычков и затхлости, и вдыхать прогорклую вонь метро в час пик, реальность — это быть всего лишь случайной прохожей, которую толкают, не извинившись, на которую смотрят и не видят, и шагать, зевая, к этому дерьмовому ресторану, и обслуживать черт знает кого под сальными взглядами Скота, и выслушивать брань из-за холодного пюре и теплого шампанского, да если бы только это, реальность — это руки по локоть в жирной воде между двумя заказами, и нескончаемые горы тарелок, отвратительное мытье посуды бок о бок с пакистанцем-нелегалом, который всем доволен и чувствует себя на своем месте, и настойчивая мысль, а не лучше ли оказаться на месте пакистанца-нелегала, реальность — это чистить сортиры, стоя на коленях на мраморном полу, уткнувшись носом в чужое дерьмо, и выглядеть несуразно в своем платье от кутюр, потому что те скверно добытые деньги, десять тысяч евро на черный день, полученные в «Рице» в то ужасное утро, разлетелись как дым за два часа шопинга, потому что я не могла решиться носить нефирменные платья и кусачие пуловеры, и я чистила сортиры в платье от Шанель, заляпывала кашемир водой из-под посуды; из-за моей глупости у меня не осталось ни гроша, и уже через неделю, ровно через семь дней после того, что я называла выходом из комы, я, в кружевном пеньюаре, обшаривала все в поисках мелочи, чтобы купить сигарет, реальность — это тревога, что нечем заплатить за квартиру, забытая тревога, на что жить дальше, реальность — это вечно глотать объедки, убирать комнату, и сколько счетов в почте, и в конце концов считать за счастье, что тебя унижают, потому что за всякое унижение платят, а эта плата — все, что у меня есть, нищенская плата, я зарабатывала ее каждый день тяжким трудом, и дни тянулись без просвета, одна повседневная круговерть, изнурительная каторга, чтобы жить, жить без всякой цели, а после унижения — бешеная гонка, чтобы успеть на метро до закрытия, и пустынные подозрительные платформы, и залитые мочой рельсы с разбегающимися крысами, а если не успеешь — возвращение пешком без четверти двенадцать, чтобы, с риском для жизни сэкономив несчастные десять евро на такси, вернуться к себе на чердак, повернуть ключ в замке, сбросить пальто на пол, вытряхнуть пепельницы, налить себе выпить и слоняться из угла в угол, бродить, не зная, чем заняться. Реальность — это пять телеканалов и отсутствие десятка монет, чтобы купить DVD-плеер, реальность — это стоять весь вечер у окна, кутаясь в дырявое одеяло, и выворачивать себе шею, пытаясь уловить на лету пару нот той музыки, что играет пианист напротив. И уворованная прелесть «Лунной сонаты», единственной доступной мне мелодии, мучительный отголосок целого мира, забытого мной, мира чувств, мечтаний, иллюзий, и я забываюсь на несколько секунд, и мне опять двадцать два, и соната по-прежнему баюкает меня, а потом затихает и гаснет, и я вновь открываю глаза и вижу вокруг темноту и холод, а под ногами — улицу Амстердам, вижу реальность, и мне хочется выпрыгнуть из окна.