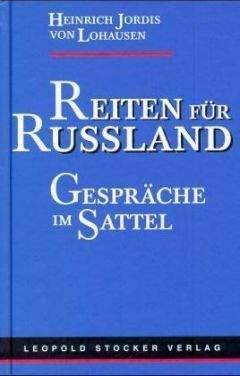Назвав великана Иммануилом, я почувствовал, что вхожу в душу этого кафе, в общую атмосферу панибратства. Гости Америки, будь это Клавдия Кардинале или Франц Беккенбауер, попадая в эти стены, вздыхали с облегчением, имеете с каплями дождя как бы отряхивали скверну неузнавания. Кое-кто из них приводил с собой «местных дантистов» вроде меня, за ними с любезностью ухаживали.
Изобретатель пиццы средневековый повар Габрелиус Пицца с улыбкой рассказывал Фолкеру Шлондорфу и Анджею Вайде о том, что в Америке полагают это блюдо подлинным американским изобретением.
Вдруг все смешалось в доме В. Р. Эбэлонских (имя предприимчивого одессита из крепостных евреев князя Степана Облонского). Вбежала некая брюнетка в декольте. Вечернее платье с блестками носило следы жадных рук, под ним угадывались стройные ноги, дрожащие в результате бегства.
Спрячьте меня, друзья, — задыхаясь, сказала дама. — Меня преследует толпа!
Все присутствующие повскакали со своих мест. Не верилось глазам. Это была она, Алексис, из нашей бесконечной «Династии», наш вариант Сары Бернар и Веры Комиссаржевской, несравненная наша американская Джоан Коллинз!!!
Штрихи к роману «Грустный бэби»
1985
Не исключено, что в роман может ворваться, будто некий летучий дух Америки, какой-нибудь мистер Флитфлинт — из тех парней, что до середины января ходят в ти-шорт [73] и неизменно на матчах superbowl [74] раскачивают над головой огромный картонный палец. На своем вездеходе «вождь че-роки» он может закатить на остров сервиса имени Фенимо-ра Купера, что лежит в излучине быстротекущего фривея № 95, отлить излишки пива «Бад», проверить за четвертак свои биоритмы, прожевать бургер, подрочить клавиши видеоигры… На все дела семь с половиной минут, и — дальше! Вдогонку бравурная интерпретация «Грустного бэби».
1953
Такого покоя, как в тот вечер, ресторан «Красное подворье» не знал сегодня своего основания, когда не обладал еще своим эпитетом, но всегда имел в наличии чистые салфетки. Даже встречающий гостей на лестнице двухметровый медведь, переживший и времена капиталистического бума, и троекратную смену власти в период Гражданской войны, и «угар нэпа», и все убожества социализма, казалось, как-то изменил свою похабную посадку и порочный перекос морды и преисполнился гражданской скорби.
С таким же медвежьим выражением скорби на лицах поднимались по лестнице четверо студентов. Не схватила бы только «медвежья болезнь»! «Мы просто покушать», — шепнули они старшему официанту Лукичу-Адреянычу. Старый стукач смотрел на них с непроницаемым выражением опустившегося лица. Нынешний вечер напоминал ему короткое затишье весной 1919 года, когда вдруг замолчала канонада над Волгой, после чего в ресторацию ворвалась орда чехословацких офицеров. Тоже хотели просто покушать.
«Бутылку— то принести?» -спросил он медленно, приняв заказ на четыре пожарские котлеты. «Разве что одну, Лукич», — пролепетал Филимон.
Зная за этими четырьмя тенденцию к сомнительным разговорам, Лукич-Адреяныч соображал — спровоцировать или нет, и решил, разумеется, спровоцировать. «Не знаю, — сказал он, — все ли искренне скорбят нонче по нашему отцу? В Америке, наверное, водку пьют, котлетками закусывают…»
1975
Весной того года ГМР приехал в большой закавказский город. Народный артист СССР и Герой Социалистического Труда Рафаил Байджиев предложил ему поставить в местном театре, где безраздельно главенствовал уже десятка два лет, пьесу Артура Миллера «Смерть коммивояжера».
Первое, что увидел ГМР, выйдя из поезда, был большой портрет Мерилин Монро. Выглядело это как-то неправдоподобно рядом с портретом Брежнева, памятником Ленину и лозунгом «Решения партии — в жизнь!».
У таксиста над щитком приборов также фигурировала фотография Мерилин, этот ее магнетический вид с полузакрытыми глазами и полуоткрытым ртом. «Кто это у вас гут?» — спросил ГМР водителя, армянина лет сорока в типичной для тех мест тяжелой плоской кепке, именуемой аэродромом. «Артистка, — охотно ответил тот, — фамилии пока не запомнил. Фильм у нас сейчас идет „В джазе только девушки“. Весь город влюбился. Такая женщина! Каждый день хожу ее смотреть, дорогой. Весь город за концы держится. Такая женщина!»
ГМР сообразил: кинопрокат выпустил наконец на широкий экран старую ленту «Some like it hot», которую он смотрел еще лет пятнадцать назад на закрытом просмотре в московском Доме кино.
Плакаты кинотеатров сопровождали их путь. Лицо Мерилин преобразило советский город. Наглядная агитация и монументальная пропаганда пятидесятилетнего социализма как бы задвинулась вглубь. «Как мало, оказывается, нужно для того, чтобы…» — продумал ГМР свою очередную антисоветскую мысль.
— Если она к нам приедет, я сразу к ней пойду! — говорил шофер. — Мы с женой десять лет живем, хорошо живем, понимаешь, а все же я ей прямо сказал: «Если эта артистка приедет, я сразу пойду!» И знаешь, дорогой, что мне жена ответила? Если, говорит, она сюда приедет, я тебе сама скажу: «Тофик, иди!»
— Она не приедет, — сказал ГМР, — она, видишь ли, умерла еще в 1962 году. Покончила с собой.
Такси дернулось.
— Что ты говоришь?! — вскричал шофер. — Как так может быть?! Я каждый день ее смотрю!
Перед красным светофором он высунулся из окна своей машины и закричал водителю по соседству:
— Арчил, тут человек говорит, что эта артистка умерла давно!
Соседний шофер ответил ему взрывом закавказской речи и характерными, рубящими снизу вверх движениями ладони. ГМР понял из этой смеси грузинского, армянского, азербайджанского и русского, что Мерилин Монро не умерла, не могла умереть, потому что Арчил Сулакаури ходил ее смотреть еще сегодня утром, до работы.
…Народный артист СССР и Герой Социалистического зуда Рафаил Бабекович Байджиев, располагаясь за директорским столом в мягкой манере средиземноморского партийцу положил изнеженную ладонь на экземпляр пьесы «Смерть коммивояжера».
— Друг мой, вы лично не знаете этого… хм… автора? ГМР солидно крякнул:
— Артура Миллера? Встречались, встречались… НА СССР и ГСТ Байджиев с досадой поморщился:
— Он что? Ненормальный? Такую женщину оттолкнуть! Не сберечь для… человечества, понимаешь!
— Старая история, — пробормотал ГМР, — так уж все у них тогда сошлось.
Еще большая досада прошла по лицу народного артиста и героя.
— Друг мой, пожалуйста, не обижайтесь. Как художник — да? — я понимаю: пьеска недурна. Как политик — да? — понимаю: важно для прогресса. Как мужчина — да? — протестую! — Он сделал режущий жест ладонью снизу вверх. — Пьесу ставить не будем! На Кавказе Артура Миллера не поймут!
Однажды серым влажным душным утром (худший вариант вашингтонского «плохого климата») плетусь из дома к Треугольнику Калорамы, имея целью пару бутылок содовой и пачку сигарет в магазинчике «7 — 11». Вдруг — забарабанило!
В глубине Коламбия-роуд появилось многокрасочное шествие с воздушными шарами, полотнищами, лентами и транспарантами. Это еще что за оказия? Куда идут трудящиеся массы? Чем ближе подходила колонна, тем меньше она напоминала первомайскую демонстрацию на Красной площади в Москве, тем больше вызывала в памяти процессии из фильмов Федерико Феллини. Ага, вот в чем дело: вашингтонская «гей комьюнити» на марше!
Ничего особенного: мужчины в дамской одежде, розовые платья с оборочками, обнаженные мясистые и мускулистые спины, мучнистый грим с ярко-синими пятнами глаз, ярко-красными ртами; женщины в мужском наряде вообще выглядели заурядно в свете современной моды.
Среди карнавального шествия проплывали декорированные грузовики с открытыми платформами и шевелящимися гирляндами, напоминающими китайский Новый год. стройный ковбой, затянутый в черную кожу, в характерной позе, пощелкивая пистолетными курками, высился на одной из платформ. Сзади, однако, у агрессивного самца были обнажены круглые ягодички, которыми он призывно и не без юмора поигрывал, являясь, стало быть, отчасти и самочкой.
Любопытно, что среди этой феллиниевской вакханалии странными выглядели не ряженые педики, а суровые ряды идеологических гомосексуалистов, то есть людей, которых в обычной толпе не отличишь от «прямых» — обыкновенные джинсы, обыкновенные сникерсы [75], костюмы, юбки, блузки, галстучки, обычные мужские и женские лица, только лишь исполненные суровой половой идеологии.
Нельзя удивляться человеческим парадоксам: движение, начавшееся как борьба против общественного ханжества, приобретает черты могущественной идеологии и вместе с ними свое собственное ханжество.
Мне пришлось как-то раз выступать в ночном шоу Си-би-эс. В эфир мы выходили под первые петухи, в четыре часа утра. «Кто нас будет смотреть в этот час?» — спросил я молодого корреспондента. «Семь миллионов людей, на которых не действуют снотворные пилюли», — бодро ответил он. (Несколько человек с нездоровым цветом лица помахали мне следующим утром на улице.) Поклевывая носом, я сидел со звукопроводящей пробкой в ухе перед телевизионной камерой и отвечал на вопросы бессонных, касающиеся Советского Союза. Вопросы в значительной степени отражали уровень представлений о восточном гиганте, характерный по крайней мере, для бодрствующей части населения западного гиганта.