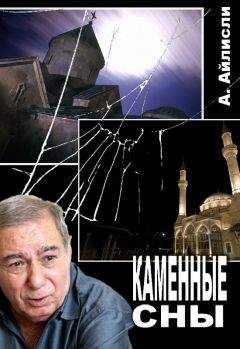Тете Медине пришлось принести одеяло, подушку и постелить мне возле Губата. Губат спал крепко, только один раз вдруг всхлипнул во сне. Что ему привиделось?.. Я всю ночь видел одно — камень, который я поднял с земли и которым тетя не дала мне разбить мяснику голову. Каким-то образом камень этот оказался там, возле школы, я схватил его и, размахнувшись, запустил в Хазера. Хазер тихонько вскрикнул и свалился на землю.
Я не знаю, как попал он мне в руки, камень, которым я пробил Хазеру голову. Я знаю только, что видел другой камень, видел его с утра: на всех уроках, на всех переменах.
— Деньги есть? — с ехидной улыбочкой спросил Хазер, когда мы вышли из школы. Он и сегодня хотел, чтобы я шел с ним и стоял там, возле лазейки.
— Деньги есть, — ответил я, — но девчонку ты больше не тронешь.
— Ха! А это видел? — Хазер показал мне трешку.
— Все равно не тронешь!
Он захохотал и хлопнул себя по коленям.
— Ловко! Ты что, втюрился в эту шлюху?
— Мать твоя — шлюха!
— Что-о?!
— Твоя мать шлюха! Ясно? И сестра! И бабка! Весь ваш род шлюхи!!!
Хазер метил мне в нос, но я нагнулся, и его кулак скользнул по лбу. Если бы я не нагнулся и если бы Хазер не побежал, я, возможно, и не поднял бы с земли этот камень.
Потом мы оказались в кабинете директора. Хазера уложили на диван. Дверь закрыли. Словно в тумане, я видел, как одна из учительниц жгла носовой платок — надо было присыпать рану пеплом. Двое учителей держали меня за руки; один из них, Сейяд-муаллим, положил мне руку на лоб. "Не бойся, мальчик, не дрожи…" — негромко сказал он.
— Подумать только: оба отличники, лучшие ученики…
Слова прозвучали глухо, словно издали…
Фирюза-ханум металась по кабинету, то и дело подходила к окну и, приподнимая гардину, выглядывала на улицу. Сейчас она совсем не казалась красивой. Лицо у нее было жесткое, как из камня, глаза сверкали холодно и остро, словно кусочки стекла.
Фирюза-ханум собственным платком вытерла Хазеру слезы. Она села рядом с ним, обняла за плечи и стала приговаривать нежно, ласково, словно баюкала:
— Хазер славный мальчик, Хазер умный мальчик…
Потом поднялась с дивана, и лицо ее опять стало жестким и холодным, как камень.
— Пошлите за его тетей! — сказала она. И добавила, обернувшись ко мне: — Я такого держать не могу. Пусть учится в своей деревне.
Я бросился к двери.
На улице было светло, а воздух был легкий-легкий — можно птицей лететь, когда такой воздух. Я побежал к реке. Там, за рекой, дорога, что ведет к нам в деревню. Прощай, черный пес! Прощай, дядя Селим! Прощай и ты, Айша!.. Я так ждал, так хотел, чтобы ты хоть раз отпихнула Хазера, хоть раз дала ему оплеуху! Ты этого не сделала и никогда не сделаешь! Мне незачем оставаться в городе! Прощай!..
Когда-нибудь я сам отыщу тебя, Айша. Ты наденешь зеленое платье из тонкой узорчатой ткани. Положишь мне на плечи белые округлые руки… Я обниму тебя, и ты задрожишь и прильнешь ко мне. И я стану целовать тебя, твой лоб, глаза, губы и все прощу тебе, Айша, все!..
Я шел в деревню. Приду и буду жить один, и днем и ночью один. Но сейчас был день, и ярко светило солнце, а все-таки было очень страшно. Я плакал от страха, и эхо разносило мои всхлипывания по ущелью… А тетя сейчас у Фирюзы-ханум, и та смотрит на нее своими стеклянными глазами. Тете сказали, что Садык набросился на мальчика, пробил ему камнем голову. Она не верит. Поверь этому, тетя Медина! Я хочу, чтобы ты поверила, обиделась на меня и не стала бы меня разыскивать. Только одного я не хочу, хотя знаю, что это неизбежно: чтобы ты плакала там, у них, чтобы, спускаясь по лестнице, вытирала слезы концом платка!..
До деревни я добрался уже в темноте. На наши темные окна мне даже взглянуть было страшно, и я пошел к дому Якуба: здесь в окнах горел огонь. Я присел у ограды, отдышался, потом тихонько постучал. Никто не услышал. Я постучал сильнее. Вышла Садаф и открыла калитку. Она не удивилась, увидев меня, не сказала ни слова, словно так и должно быть…
По новой цементной лестнице мы поднялись на айван. Якуба дома не было. Его толстые краснощекие сыновья сидели вокруг большой миски и уписывали катык. Садаф стала убирать посуду. Закончив вечерний намаз, из соседней комнаты вышла тетя Набат, она тоже не удивилась мне.
— Пришел, сынок? — просто сказала она. — Садаф, принеси-ка ему хлеба.
Но Садаф гремела дровами у печки — она заметила, что меня всего трясет. Тетя Набат сама принесла хлеба, положила передо мной и села в уголке на сундук.
— Как тетя, здорова?
— Спасибо, здорова.
— А чего ты пришел?
Я промолчал. Тетя Набат не стала расспрашивать.
— Ешь сынок, — вздохнув, сказала она, — мы уже поужинали.
Потом она поднялась с сундука и, волоча за собой длинную черную юбку, подошла к окну. Постояла, поглядела в темноту… Снова села на сундук, подперла рукой голову и, покачивая головой, сказала:
— А Якуба-то забрали!.. Забрали, чтоб им пропасть, этим амбарам!..
4
Мне приснилось, что я иду из города, позади меня бежит черный пес, я все время подзываю его — мне хочется увести его с собой в деревню. Но за черным псом неотступно трусят три тощие шелудивые собаки, и пес не хочет бросать товарищей: побежит-побежит, остановится и смотрит на них… Я пробовал отогнать собак, швырять в них камни, они отставали немножко и снова кидались догонять пса… Мне было жалко, что это только сон, но ведь, если бы я не увидел сна, я, может быть, так никогда и не понял бы, что это невозможная вещь — разлучить черного пса с его друзьями…
Якубовы сыновья, мордастые, краснощекие мальчишки, крепко спали, лежа рядком на паласе. Тетя Набат, набросив на голову черную сатиновую чадру, совершала намаз в соседней комнате; маленькая тощая Садаф кипятила молоко на айване. Я глядел на ее огромный, с пудовый арбуз, живот и раздумывал, как это она не опрокинется, как можно таскать такой живот на таких маленьких тонких ножках.
Когда я открыл глаза, во дворе еще лежала тень, но росистая трава возле арыка уже серебрилась в лучах солнца. Дорожки, что вели от калитки к айвану, Якуб покрыл цементом, посреди двора устроил цементный водоем; чистая прохладная вода переливалась через край, свободно стекала на траву…
Я не поверил своим ушам, услышав во дворе тетин голос. Как она успела дойти? Ведь только светает…
— Садык у вас?
— У нас. Проходи в комнату, Медина…
Я сорвался с места и, сунув ноги в башмаки, бросился навстречу тете — я понял, что, если она сию же минуту не увидит меня, у нее разорвется сердце.
В руке тетя Медина держала тяжелую связку учебников. Увидев меня, она медленно опустила ее на землю. Я взял книжки, тетя немножко поговорила с Садаф, и мы пошли домой.
Тетя не сказала мне ни слова. Она ничего не спросила о Хазере, ни словом не упрекнула меня за то, что сбежал. Слишком она была счастлива. Тетя радовалась, что я нашелся, что вокруг так тихо, что воздух такой прозрачный и что возле арыка уже распустились фиалки…
Тетя вытащила щепочку, которая вместо замка была заткнута в петли калитки, мы вошли; гора, поднимавшаяся за домом, была вся красная, словно оштукатуренная солнцем.
Дорога, петляющая по склону, лежала, открытая солнцу, и, глядя на нее, я почему-то вспомнил учителя Сейяда и как он сказал тете: "Если ты согласна, Медина, пусть Садык и мне будет сыном".
Мне хотелось расспросить тетю Медину, что ей сказали в школе, выйдет ли Мерджан за мясника, поправится ли Губат. Но ничего этого я не спросил, а сказал совсем другие слова:
— Я больше в город не пойду.
Тетя сняла ржавый замок, висевший на двери дома, бросила его на мягкую землю и, толкнув дверь, вошла в прихожую.
— Я тоже не пойду, — сказала она.
В комнате было светло, удивительно светло было в нашей комнате. Стекла, которые вставил Якуб, были все целы. У стены стояла большая торба с орехами, крепко перевязанная веревкой. Тетя опустилась на колени и стала не спеша развязывать ее.
— Тетя, Якуба забрали, ты знаешь?
— Знаю.
Она развязала мешок, достала пару орехов, сжала их в кулаке; один треснул; тетя разломила его, выковырнула ядрышко, сунула в рот…
— Ты, Садык, только от школы не отставай… — сказала она. — А я лягу, устала немножко…
Тетя Медина развернула узел, в который год назад упаковала одеяла и подушки, и стала стелить постель.
1
Когда сына тети Набат, кладовщика Якуба, посадили в тюрьму, в деревне сразу стало очень тихо. Ведь тишина в нашей деревне зависит от того, что происходит на площади, а Якуб каждый вечер собирал возле мечети мальчишек; часа по два барахтались они на земле, и все это время в деревне не слышно было ничего, кроме восторженных воплей болельщиков. После борьбы брались за пояса — и опять крики, шум, смех… Сам Якуб на поясах, конечно, не схватывался, поскольку не мог найти себе партнера среди ребятишек, но верховодил в этой забаве он. Теперь на площади тихо, потому что Якуба забрали. И возле колхозного амбара, что стоит у горы, на самом краю деревни, тихо теперь без Якуба. Разве что вода шумит… Вырвавшись из-под скалы, она мчится в трубе под амбаром и с высоко поднятого каменного желоба падает в глубокий водоем; ее глухой размеренный гул напоминает мне чем-то басистый Якубов голос; я каждый раз думаю о нем, когда прохожу мимо.