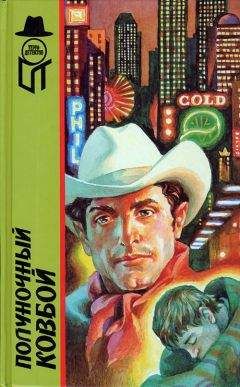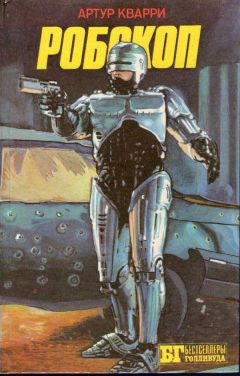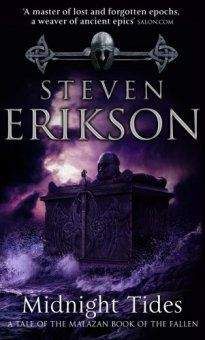— Где бы вы хотели поужинать? Выбирайте любой из ресторанов Манхэттена. Да что там, любой на Восточном побережье, если у вас есть любимое местечко, где-нибудь в Нью-Джерси, на Лонг Айленде или даже в Филадельфии, мы возьмем такси. Говорите же! «Шамбор»? «Лу»? Ваш костюм не имеет значения, меня там все знают. Я скажу, что вы с родео, в Нью-Йорке ведь есть родео? Вид у вас вполне представительный, тем более в действительно хороших ресторанах не станут придираться из-за галстука или прочей чепухи.
— О! — Он щелкнул пальцами. — Черт возьми, вот что мы сделаем — поужинаем у меня в номере. Видите ли, в полдесятого я жду звонка. Мамочка всегда звонит мне перед тем, как лечь спать, и я обязан быть на месте. Ей девяносто четыре года, а если человек в этом возрасте звонит, чтобы пожелать вам спокойной ночи, лучше быть на месте. Согласны? Итак, едем ко мне? А ужин нам пришлют в номер. У меня очень скромный, но прекрасно обставленный номер в отеле «Европа», рядом с Девятой Авеню. Все мои богатые друзья останавливаются у «Пьера» или в «Плазе» и довольны! Они спрашивают: «Тоунсенд, почему ты, скажи на милость, живешь в «Европе»?» Но я-то знаю, да и вы, конечно, знаете, что пятьдесят лет назад «Европа» была единственным отелем на Манхэттене. Высокие потолки, мраморные ванные… Мы с вами знаем, что значит настоящий шик. — Он сжал руку Джо. — Это не просто дань моде. Вот и пришли. Поглядите!
В вестибюле парень с тонким бесстрастным, отрешенным лицом сунул Джо в ладонь листовку: «Ваш дом горит, и только Иисус сможет погасить пламя». Джо смял ее и сунул в карман.
— Взгляните, какой великолепный вестибюль, — дернул его Локки.
В вестибюле «Европы» жизнь кипела и бурлила. Один угол отгородил для себя фотограф, в другом обосновались инструкторы по спорту. Повсюду стояли автоматы для продажи леденцов, сигарет и прохладительных напитков. Кафельный пол с выбоинами недавно мыли, но наспех, так что виднелись полоски высохшей грязи. В воздухе стоял слабый запах нашатырного спирта. Коротышка-администратор с отсутствующим выражением на сером лице сидел за стойкой. Казалось, хозяева отеля наняли его потому, что ему было глубоко плевать, что за люди здешние постояльцы, когда они приходят и уходят.
Локки и Джо вошли в скрипучий, медленно ползущий лифт. Локки трещал без умолку до пятого этажа, не замолчал и в коридоре. «Центральный Парк, Гринвич Виллидж, огни реклам, миллионы приезжих со всех концов света…» Он перечислял, что больше всего поразило его в Нью-Йорке, «…полная и абсолютная свобода… как бы лучше выразиться… напор прогресса буквально во всем. Понимаете, о чем я говорю? Чувство времени в Нью-Йорке совершенно меняется. Это вам не Чикаго, хотя, знаете ли, Чикаго — это не только скотобойни. Но в Нью-Йорке каждую секунду ощущается движение вперед. Прислушайтесь! Прислушайтесь и вы услышите сами. Время — великан, марширующий по Бродвею. Разве вы не слышите его шагов?»
Они стояли у окна гостиной в номере Локки и смотрели вниз на Сорок вторую улицу. Джо слышал тот шум, которому Локки пропел вдохновенный гимн. Это был всепроникающий пульсирующий рокот, словно говор миллионов людей и рев миллионов машин слились в унисон, зазвучали в едином ритме и действительно превратились в великана, обладающего огромной силой.
— И мы с вами, — продолжал Локки, — часть этой силы, этого дыхания. Да! Вас это не волнует? Только вдумайтесь: стучит ваше сердце, стрекочет проектор в кинотеатре, ревут моторы, а все вместе… Нет, я волнуюсь даже при мысли об этом! Хотите выпить? У меня есть неплохой джин. Впрочем, если вы предпочитаете что-нибудь другое, я закажу. Может быть, ирландское виски или сакэ? Говорите, не стесняйтесь.
— Сойдет и джин.
— Это и в самом деле чрезвычайно сильное ощущение — гнул свое Локки, — чувство времени в Нью-Йорке. Однако, с другой стороны, нельзя им злоупотреблять — выбивает из колеи. У меня, видите ли, нервы не совсем в порядке, бывают депрессии, и все они связаны с моим ощущением времени. Например, в Чикаго мне частенько представляется, будто время остановилось двадцать лет назад. А все, что было потом, — просто плод дурацкой ошибки. Ну, разве это не патология? Par exemple[11], в такие минуты мне кажется ужасной нелепостью, что где-то в мире существует седой старик — вы его видите сейчас перед собой. На самом деле его нет! Просто была война, был черноволосый мальчик в солдатской форме, красивый, как Бог, и ему было суждено погибнуть на войне! А он не погиб. Кто-то глупо ошибся там, на небесах, и я все еще жив. Забавно, правда? Ладно, что я о себе, да о себе. Весь вечер не даю вам рта раскрыть. Вот джин. А теперь расскажите про себя, как там живется на Западе, как ваш скот? Но сначала я кое в чем признаюсь. Запад увлекает меня до чрезвычайности, это царство прерий и романтики, перекати-поле и коровьих шкур. Даже если бы вы не были таким замечательным юношей — а я знаю, вы такой, я это сразу понял, у вас тонкий, чувствительный нестандартный ум, — но даже если бы вы не были таким, я бы все равно почувствовал, что между нами есть… есть… — Локки поводил ладонью около сердца, будто оно было магнитом, способным притянуть нужное слово, — есть rapport[12].
Он протянул ладонь к Джо, словно в ней лежало пойманное слово.
— Я бы это почувствовал просто потому, что вы с Великого Запада. И мамочка тоже так думает, можете мне поверить, она бы сразу полюбила вас, и когда она позвонит, — он посмотрел на часы, — в половине десятого, я попрошу вас подойти к телефону и сказать: «Привет, Эстелла, я…», как вас зовут?
— Джо.
— Значит, скажете: «Привет, Эстелла, я — Джо. Ваш Тоунсенд — славный парень». Ну, или что-то в этом роде. Я вас сначала представлю, скажу, что вы — ковбой, она будет в восторге. Ей девяносто четыре, но какой ум! Острый, как бритва! Хотите, расскажу, что я устроил на ее день рождения? Впрочем, что это я? Вы же мамочку и в глаза не видели, так что вряд ли вам будет интересно…
— Да нет, валяйте, послушаю.
Джо даже порадовался, что его новый приятель болтает без умолку. Ему надо было собраться с мыслями. У Локки явно водились денежки, не миллионы, конечно, но и не гроши. Джо догадывался, почему Тони выбрал именно этот отель, хотя мог бы жить в местечке и почище: здесь всем было наплевать, извращенец он или нет.
Они сели, Джо — на кушетку, Локки — на мягкий стул. Сколько же он еще будет трепаться, гадал Джо, пока в конце концов не подойдет к кушетке, не положит ему руку на колено… ну, и так далее. И как тут лучше себя повести? Прямо, без обиняков, заговорить о плате? Или просто намекнуть, дескать, не могли бы вы оказать такую любезность… Джо решил, что Локки в общем-то парень симпатичный, но старался об этом не думать. Дело есть дело.
— …А там стоял струнный квартет. Представьте, почтенная леди сидит в постели, покрывало бледно-голубое и все в кружевах, волосы мелко завиты — я сам ее причесываю два раза в неделю, а у ног ее — венский струнный квартет играет «С днем рожденья…». — Тут Локки заголосил: «С днем рожденья, Эстелла, с днем рожденья тебя-a!» Боже мой! — В ярко-синих глазах блеснули слезы. — А ведь предыдущим вечером они играли Бетховена, и их слушали две с половиной тысячи людей! Это и был мой подарок мамочке. Чем же еще порадовать женщину, которая старше, чем само время? В ней весь смысл моей жизни. Все говорят: как ты добр к ней! Чепуха, отвечаю я им, я добр сам к себе!
Последние слова Локки произнес с силой, почти яростно. Потом наклонился к Джо и продолжал уже спокойно:
— Я поясню: у мамочки редчайший дар понимать своих ближних. Возможность быть рядом с ней стоит любой жертвы. Поймите меня правильно, я вовсе не желаю ее расхваливать, лишь отдаю должное, хотя и может показаться, что я сильно преувеличиваю. Поэтому я обычно не говорю на эту тему, молчу, как рыба, ибо знаю, что обычный, заурядный человек не в состоянии постичь вершины возможностей человеческого духа и не может… Вот, кстати, я уж отвлекусь, мне частенько говорят… ох уж мне эти ограниченные люди, просто грустно делается… так вот, даже близкие друзья мне говорят, что у нас с мамочкой ненормальные отношения. И знаете почему? Потому что я, видите ли, до сих пор не женат. Ну и что, я и не хочу, да и почему я обязательно должен жениться?
После этой тирады Локки умолк и, казалось, забыл о своем госте. Уставясь куда-то за спинку кушетки, он нахмурился и стиснул зубы. Потом неожиданно вспомнил о стакане, который все еще держал в руке, и так быстро поднес его ко рту, что добрая половина содержимого пролилась на брюки. Локки смущенно улыбнулся, стряхнул капли со штанин, провозгласил тост «За Дикий Запад», выпил и снова затрещал, как пулемет.
— Знаете ли, в свое время я серьезно подумывал о женитьбе, но мы живем в такую эпоху, когда чувствам доверять нельзя. На старые, добрые человеческие чувства теперь налепили эти жуткие ярлыки, прямо патология какая-то: верность — значит просто деваться некуда, долг — реализация подсознательного чувства вины, а любовь — вообще что-то вроде комплекса. Вам бы Эстеллу послушать, вот кто по-настоящему понимает! А всю эту ерунду я не от психиатров слышал, нет, а от своих близких друзей. Но разве может интеллигентный человек так грубо судить об интимной жизни своего ближнего? Вот вы бы смогли, например? Разумеется, нет. А теперь я вам скажу, что думает по этому поводу настоящий специалист. Его гонорар — пятьдесят долларов в час, так что судите сами. И вот, он считает, что у нас с мамочкой все очень хорошо. А почему? Да потому, что в наших отношениях есть смысл! Все очень просто. Идеал каждого сына — навсегда сохранить любовь матери. Мне это удалось, я воплотил идеал в своей жизни. Конечно, здесь тоже есть проблемы, например, то, что она умрет раньше меня. А может быть, и нет! Да-да, самое лучшее в мамочке то, что она не умрет!