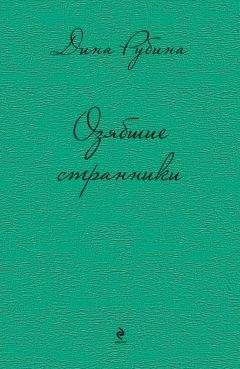Ознакомительная версия.
Она достала свой собственный смычок, провела им по струнам, извлекая один за другим сильные волнующие звуки — обрывки известных скрипичных пьес.
— Какой огромный… — пробормотала я почти благоговейно. — Альт-акселерат…
Было в его теле нечто освобожденное, устремленное вдаль, я бы даже сказала — улетное. Возможно, из-за отсутствия смычка, — ибо любая трость, занесенная над чем бы то ни было, всегда становится палкой надсмотрщика…
* * *
Вскоре моя сестра покинула Россию. Она уезжала в Израиль через Польшу, поездом, захватив с собой только скрипку и небольшой саквояж. Ее сын, мой единственный племянник Боря, должен был приехать позже, когда она там «встанет на ноги». Хотя, на мой взгляд, Боря — даже когда был маленьким — стоял на ногах гораздо уверенней своей мамы. Его всегда отличал вдумчивый и несколько иронический взгляд на окружающих.
Однажды (ему было года четыре) моя сестра обмолвилась, что я сижу в доме творчества.
— Что это — дом творчества? — спросил мальчик.
Моей сестре некогда было вдаваться в эту совершенно неинтересную тему, и она сказала:
— Ну… это такое место, где писатели творят.
— Что творят? — насторожился Боря.
— Что хотят, то и творят, — легко ответила его торопливая и занятая мама.
— Что хотят — творят?! — потрясенно переспросил Боря. — Они там на ковер какают?!
Очевидно, подобное действие в Борином воображении было проявлением высочайшей духовной свободы.
Когда он вырос, его замечательно устойчивый характер явил еще одну привлекательную черту — невозмутимость и доброжелательное приятие всех сумасбродств близких.
Словом, Вера уехала и стала слать из Израиля восторженные письма. «Какое это счастье, — писала она, — жить в своей стране и чувствовать себя равной со всеми…»
* * *
У нас еще оставалось немного денег — заплатить в ЖЭК за ремонт квартиры, которую мы оставляли государству. Иначе нам не давали справку — заветную индульгенцию, без которой в те годы евреев не отпускали босых по миру.
На вывоз альта — нашей главной надежды и достояния — тоже требовались разные документы; его, как заключенного, щелкали и в фас и в профиль, к нему прилагалась официальная бумага, мнение компетентной комиссии министерства культуры. Помнится, в очередях министерства я с трепетом ожидала отказа на вывоз такого высокоценного инструмента. Однако советские чиновники довольно легко и равнодушно выпустили эту птицу на волю…
Моя милосердная память, которая всегда в тяжелые минуты закрывает мне глаза теплой ладонью, во время всей таможенной процедуры в Шереметьево приоткрыла щелку лишь на те несколько минут, когда таможенники в лупу дотошно осматривали альт и фотографии с него.
Когда же они приступили к личному досмотру нашего тринадцатилетнего сына и он, беспомощно и испуганно глядя на меня, вдруг поднял вверх худые длинные руки, моя жалостливая память снова плотно закрыла мне глаза обеими ладонями…
Впрочем, это уже другая тема.
* * *
…Когда мы приехали в Израиль, выяснилось, что умные и дальновидные евреи понавезли в эту небольшую страну огромное количество самых разнообразных музыкальных инструментов. Не стану пересказывать анекдотов о новых репатриантах на эту тему, сочиненных местными уроженцами.
Моя неунывающая сестра заявила, что сейчас не время заниматься торговлей, ничего с этим дурацким альтом не случится, если на нем немного поиграет один ее знакомый студент, с которым как раз они затеяли играть дуэтом. Потому что инструменты мастерят для того, чтоб на них играли, а не что-нибудь… Глядишь, поиграет-поиграет да и купит! Против этого аргумента мне нечего было возразить, хотя я сомневалась, что у студента родом из города Чернигова хватит средств приручить нашу гордую птицу.
Так альт впервые покинул наш первый временный дом в этой стране.
Но месяцев через пять я заскучала. А может быть, опять наступило время осенних перелетов. Мы выехали из приличной квартиры в одном из респектабельных районов Иерусалима и, поддавшись на уговоры друзей, поселились в «караване» — асбестовом вагончике на сваях, в маленьком поселении посреди Самарии. Фанерная дверь распахивалась в такой простор холмов и долин, что захватывало дух… Хотелось петь или играть в унисон плакучим ветрам, овевающим наш высокий холм… Или, по крайней мере, видеть перед глазами собственный альт, его певучие благородные очертания.
Я потребовала вернуть мне инструмент.
Его принесли — футляр за это время еще больше обмахрился и выглядел совсем уже задрипанно. Надо, надо было бы купить футляр попрезентабельней. Но с другой стороны — к чему, когда мы все равно продаем наш альт? Сам инструмент мне тоже показался несколько поблекшим, даже припыленным.
— Что он делал с альтом, этот твой студент, — возмущенно спросила я, — сушил на нем носки?
Вера внимательно оглядела инструмент…
— Да, надо бы почистить его прокопченную тушку, — пробормотала она.
— Чем? — заволновалась я.
— А вот чем, — сказала она и плюнула на верхнюю деку! Потом достала носовой платок и принялась тщательно полировать им поверхность.
В этот период моя сестра время от времени не то чтоб вспоминала свои пророчества о моем грядущем богатстве, но ее деятельная натура рвалась на коммерческий простор. Тогда она звонила и требовала явки с альтом к знаменитой арке Талита Куми на улице Короля Георга. Почему-то всем потенциальным покупателям она назначала встречу именно в этом месте, именно под этой многозначительной библейской надписью: «Встань и иди». Я вставала, брала старый коричневый футляр с двумя поломанными и одной целой застежками, в два ряда обвязывала его — чтобы не развалился по пути — резинкой от старых трусов моего мужа и послушно шла на встречу.
Вскоре я могла без запинки предсказать ритуал очередного сватовства и даже с высокой степенью точности передать диалоги.
— Это альт? — подозрительно вглядываясь в инструмент, спрашивала очередная мамаша-бабушка ученика, которому администрация музыкальной академии предложила со скрипки перейти на альт.
— Нет, это контрабас, — спокойно-презрительно отвечала моя недипломатичная сестрица.
Тогда я торопливо вступала в диалог:
— Альт прекрасный, ручная работа, мастер Шуб, стоил там бешеных денег.
— Там — это не здесь, — возражала потенциальная покупательница. — Мы должны посоветоваться с мастером.
Попрепиравшись, мы отдавали наш альт в чужие руки, и вот он уплывал в толпу в своем дешевом дерматиновом футляре, перевязанном резинкой от трусов.
Как правило, недели через две покупатели проявлялись с убийственной новостью: во-первых, альт не такой уж прекрасный. Не Генуя. И не Кремона. Во-вторых, у него существенный недостаток: он слишком велик. Непонятно — для кого его мастерили. Где взять такие длинные руки, чтобы играть на нем?
Я растерянно оглядывалась на сестру. Она невозмутимо отвечала, что — да, это особенный инструмент для особенного исполнителя. И если ваш мальчик (девочка) не тянет пока на такой редкий альт, так и скажите, вместо того чтобы хаять замечательный инструмент.
— Слушай, — спросила я ее однажды осторожно. — Ты же сама его выбирала. Ты не обратила внимания, что с ним как-то… что-то… особенное?.. И кто такой, в конце концов, этот мастер Шуб?
— А хрен его знает! — раздраженно сказала она. — Что можно было понять в этом темном подвале без акустики, у этого алкоголика?!
* * *
Однако мы успели полюбить наш альт. Каждый раз, надеясь продать его хоть за небольшие деньги, мы все же невольно радовались, когда он возвращался домой, в наш асбестовый вагончик на сваях. С ним на холмы Самарии слетало нечто возвышенно-благородное, янтарно-солнечное, певучее, отрадное…
В конце концов мы уже перестали надеяться, что кто-то купит такого великана, и, отдавая альт в руки очередного покупателя, мы словно отпускали птицу полетать на воле. И действительно, полетав неведомо где, он обязательно возвращался, складывал крылья и повисал ярким праздничным пламенем на белой стене.
* * *
Между тем наступила зима, памятная холодная зима девяносто первого года. Выпал снег, какого лет сто не бывало в этих краях. Наш картонный «караван» у подножия высокого холма завалило по самые окна. Естественно, местные коммуникации, не рассчитанные на сибирские холода, развалились, рухнули, исчезли, растворились… Мы оказались посреди заснеженных долин и холмов с лопатой в руках и кастрюлей, в которой оттаивали снег, добывая воду.
Пару раз отваживались карабкаться в гору — к единственному в поселении магазинчику, чтобы закупить какие-нибудь консервы. Шли вдвоем с Борисом, один за другим, он — впереди, я — ступая в его глубокие следы, оскальзываясь, катясь под гору и снова карабкаясь наверх…
Ознакомительная версия.