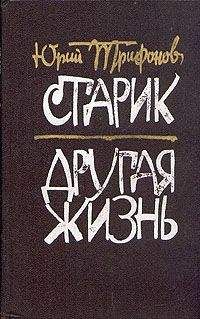Он жил отдельной жизнью. Работа перестала интересовать его, диссертация не двигалась. Зато рассказывал о забавных ответах и удивительных пророчествах, которые получались на «вечерах со стаканчиком». Она продолжала во весь этот вздор не верить, — ну можно ли поверить в серьезность рассказа о том, что удалось наладить связь с некиим братом Арнульфом, монахом-францисканцем, жившим в шестнадцатом веке в Швейцарии, и теперь он ведет с этим Арнульфом регулярные беседы? — и все сильнее крепло убеждение в том, что Дарья околдовала его.
Первый раз увидела ее случайно в театре. Были в «Современнике» на премьере. Гуляли в антракте в фойе на втором этаже, и вдруг он стиснул очень больно ее руку — было потом неопровержимой уликой, уж очень больно, как тисками, чисто рефлекторный жест — и шепнул:
— Там в углу Дарья Мамедовна!
Прежде чем посмотреть в угол, она посмотрела на него. Он залился краской. Дарья Мамедовна была смугла, худощава, с серебром в черных волосах. Она смотрела на Сережу, когда он подходил, без улыбки и даже, пожалуй, неприветливо. Рядом с нею сидел молодой человек, плохо выбритый, в белой грязноватой водолазке. Сережа поздоровался и познакомил Ольгу Васильевну. Молодой человек был моложе Дарьи лет на двадцать. Она его не представила. Никакого разговора не произошло, хотя Сережа потоптался два-три лишних, неловких мгновенья — в ту секунду Ольга Васильевна испытала мучительный стыд, — и они отошли.
— Мне тебя очень жаль, — сказала Ольга Васильевна.
— Почему жаль? Что за ерунда! Не понимаю, что ты плетешь! — хорохорился он и, обидевшись, не разговаривал с нею до конца антракта.
Спектакль был веселый. Они не смеялись. Тогда обдало, внезапно — как холодом, — предвестьем беды.
Второй раз — на набережной, в доме с кариатидами, с комнатушками, напоминавшими давнишнюю комнату-обрубок на Шаболовке. Там жил какой-то федоровский приятель, инженер-автодорожник, спирит и собиратель книг по магии и оккультизму. Показывал старинную книгу под названием «Чаромутие». Сережа звал несколько раз посмотреть, как все это происходит, но ей не хотелось, ужасно не хотелось: она чувствовала, что он приглашает неискренне. Он лгал, приглашая:
— Пойдем, сходим… Посмеемся.
А на самом деле не желал, чтобы она там появлялась. Поэтому надо было себя пересилить. Их жизнь распадалась, превращалась в осколки, в мозаику, и это было похоже на сон, всегда отрывочный, мозаичный, в то время как явь — это цельность, слитность. Она пришла с головной болью. В коридорчике висел плакат: «Тишина — ты лучшее из всего, что слышал». Стоял сладковатый, как в церкви, запах свечного дымка и горячего воска. Все разговаривали едва слышно, бросали как попало пальто и шубы в коридоре на сундуки.
Она заметила: давно не тертый, серый от грязи паркет.
Ее полнила тупая решимость, какая бывает только во сне: поговорить с этой женщиной. Но той не было. Она пришла часа через два, когда все кончилось. У людей, которые усаживались вокруг стола, был напряженный и скрытно сконфуженный вид. Никто не шутил, не улыбался, но старались не смотреть друг на друга, а смотрели на середину стола, где на листе бумаги с нарисованными по кругу буквами алфавита стоял небольшой стаканчик. Было пять женщин и четверо мужчин. Сережа сказал, что они из технического мира, а одна женщина, как выяснилось потом, была театральной кассиршей. Тут же был Федоров, неестественно молчаливый и сумрачный. Руководил действиями инженер-автодорожник, бледный человек с русой шкиперской бородкой, говоривший отрывисто и быстро. Каждая его фраза имела оттенок команды, это было неприятно. И сам этот человек, манерно одетый, в красном, толстой вязки шерстяном жилете, с шнурком вместо галстука, показался Ольге Васильевне неприятным. У него были длинные пальцы с беловатым налетом вокруг ногтей. За вечер он ни разу не посмотрел на Ольгу Васильевну, хотя, она ощущала, он всеми органами чувств как бы следил за ней. Кто-то сказал, что необходимо открыть окно, другие возражали, из-за этого возник спор. Две женщины, требовавшие открыть окно, спорили необыкновенно горячо и яро и даже угрожали, если не будет по-ихнему, покинуть собрание, которое потеряет будто бы всякий смысл. Было ясно, что тут вопрос не о свежем воздухе, но о чем-то высшем, глобальном. Хозяин, на короткое время заколебавшийся, затем решительно нашел выход: открыл дверь в соседнюю комнату, а в той комнате растворил окно.
Сережа сидел напротив. Выражение лица его было непроницаемо. О чем он думал? У нее сжималось сердце от тревоги и от жалости к нему: ведь ему было худо, как и ей. Дома ждали дела, уборка, магазин, отнести белье — до девяти вечера, но каждый день что-то мешало, то усталость, то другие заботы, — и надо писать отчет, а его ждали выписки в толстых тетрадях, книги, папки, все то, что застыло на полпути и не двигалось, а вместо этого… Человек в красном жилете командовал:
— Левую руку на правую руку соседа… Ступней на ступню… Образовать цепь…
Стаканчик действительно как бы оживал под руками, сначала неуверенно дергался, затем шаркал по бумаге конвульсивно и резко от буквы к букве, и из невнятицы, сумбура возникали фразы. Отец Паисий сказал: «Не скупись творить добро, отплатится тебе, дураку, сторицей». Недоумение вызвало слово «дураку». Почему же презрительно сказано о делающем добро? Одна дама объяснила: дух отца Паисия, по-видимому, иронизирует над земной моралью, где творящие добро считаются по нашей циничной житейской логике дураками. Дух Торквемады разговаривал долго и путано, но фразы были почему-то газетного типа, что вызвало разочарование.
Потом был сделан опыт психографии: одна из женщин села с карандашом к листу бумаги, остальные сидели как прежде, вокруг стола, пытались вызвать дух Герцена, тот упорствовал, не являлся, капризничал, — кто-то предлагал оставить его в покое, не соглашались, хозяин дома злым шепотом потребовал, чтоб прекратили спор и продолжали дело, — свет был погашен, напряжение росло, и наконец все услышали в полной тишине скрип карандаша. Женщина, сидевшая за отдельным столом, писала! Никто не сомневался в том, что ее карандашом водила рука Герцена. Когда зажгли свет, бросились к бумаге — женщина сидела, откинувшись на спинку стула в изнеможении, лицо в поту, страшно бледно, ей тут же налили валерьянки, — увидели громадные, во весь лист, каракули.
Хозяин дома, схватив бумагу, прочитал сдавленным от волненья голосом:
— «Мое… пребежище… река…»
Ольга Васильевна услышала, как Сережа хмыкнул. Прекрасно знала это его ехидное хмыканье, не могла ошибиться, но когда взглянула на него, увидела все ту же непроницаемость. Раздались голоса:
— А что дальше? Больше ничего?
— Больше ничего, только эти три слова, — ответил хозяин дома быстро, все еще во власти волнения.
Рассматривали бумагу, изучали каракули и опять спорили. Что значит «река»? И почему «пребежище»? Согласились на том, что «река» — это, вероятно, символ времени, река времен, и дух Герцена, стало быть, уповает на время. Это сообщение показалось значительным и глубоким. Что же касается «пребежища», то тут стали в тупик. Мог ли дух Герцена совершить столь грубую орфографическую ошибку? С пристрастием допрашивали женщину: твердо ли знает она, как пишется слово «прибежище»? Женщина — это и была театральная кассирша, отличавшаяся особой сенситивностью, то есть чувствительностью, что определяло ее медиумические способности, — нервно и возмущенно отвергала предположенье о том, что могла совершить ошибку.
— Неужели вы думаете, я такая неграмотная? — говорила она, едва не плача.
Сережа заметил, что в таком случае неграмотным следует признать Александра Ивановича. Это вызвало новый спор, все говорили разом, но хозяин внес ясность: орфографические ошибки не имеют значения, важна суть сообщения, а не форма. Когда на пиру Балтазара, сказал он, появились мистические письмена «мене, текел, фарес», никому не пришло в голову рассуждать, правильна ли орфография. Всех охватил ужас. Кстати, в книге пророка Даниила сказано, что письмена были «мене, мене, текел, упарсин» — обычная при психографии тавтология и перестановка букв… Ольга Васильевна почувствовала, что головная боль усилилась, не могла больше сидеть и встала. В соседней комнате легла на диван. Было темно и холодно. Кто-то прошел вслед за ней и закрыл окно.
Был приступ, как в худшие времена, до тошноты. Сережа принес стакан горячего чая и лекарство. Накрыл ее чем-то. Ей хотелось, чтоб он посидел рядом, — чтобы побыть одним, в темноте, — и она взяла его за руку и спросила:
— Ты понимаешь, что все это чушь?
Он сказал, что понимает. Сквозь страшную боль, стиснувшую виски, иглою просунулась другая боль: зачем же приходит, если понимает? Но не спросила об этом. Чувствовала себя слишком слабой.