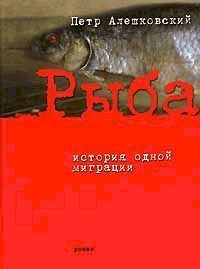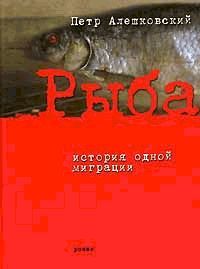У меня сложные отношения с возрастом. Иногда, даже теперь, я кажусь себе моложе своих сорока двух, чаще — гораздо старше. Тогда, в кармановской избе, ощущала себя глубокой старухой. Потребности свелись до минимума. Вскипятить на плитке чай, сварить картошку, макароны или кашу, протопить печь. Я часто и подолгу лежала, путала день с ночью, иногда часами смотрела, как гнутся под ветром деревья на окраине леса, как добивает октябрьский дождь умирающие травы.
Даже Мустанг, которого Лейда, по-моему, специально пустила пастись под моими окнами, не мог выманить меня на улицу. Солнце красило лес в желтые и оранжевые цвета, ветер обрывал листья. Во дворе Лейда стучала в деревянном корыте сечкой — рубила на зиму капусту, я не выходила ей помогать.
По-прежнему каждый день на моем столе появлялась банка с молоком, а по воскресеньям лукошко с яйцами. Я почти не притрагивалась к подношеньям моей чудесной соседки, иногда хлебала скисшую простоквашу, но чаще исправно навещавшая меня Лейда упрямо меняла банку старого молока на банку свежего, утреннего, уверенная, что моя апатия пройдет и я воспряну к новой жизни.
— Вставай, вставай, Вера-девушка, без работы смерть, — напевно исполняла она утреннее приветствие. Я смотрела сквозь нее, вымученно улыбалась, но говорить не хотелось. Нет, могла говорить, но не хотела, сознательно сжимала губы, дура несчастная. Как же мне было жалко себя в эти три недели, что только не насочиняла себе, оставаясь одна, стыдно вспоминать.
Работа! О какой работе говорила эстонская бабушка? Тюкать капусту, убирать в хлеву — ради этого была рождена на свет? Лень обволакивала меня, как заморозок осенний цветок. Я похудела. Сухая и звонкая, лишенная надежды снова быть нужной кому-либо, я дошла до крайней степени отчаяния-безумия.
Как-то глубокой ночью проснулась от холода: с вечера забыла растопить печки. По крыше стучал дождь, он лил уже третий день, мелкий, холодный, беспросветный. Выйти во двор к дровянику казалось ненужной пыткой. Открыла вьюшки, затопила печи книгами. Сидела на корточках, рвала их тетрадями, с хрустом раздирала корешки, кидала в гудящие топки: в русскую — в лежанку, в русскую — в лежанку. Джек Лондон, Майн Рид, Эмиль Золя, Фейхтвангер, «Капитанская дочка», Диккенс, «Мертвые души», Некрасов, Маяковский, учебники с каракулями моего Павлика, два затесавшихся сюда дневника за шестой и седьмой классы с жирной росписью возле каждой пятерки Файзулло Рахмонова — их учителя литературы.
Сперва они горели неохотно, листы чернели по краям, толстые тетрадки занимались медленно. Я шуровала в печках кочергой-куковкой, как ее здесь называли, и огонь начинал пробирать их, ярился, крутил картон, превращая его в свиное ухо, рвался вверх к кирпичам свода, голосил в трубах, а оранжевые отблески его плясали по стенам избы, загоняя неровные нервные тени в углы. Я не зажигала электричества, мне было достаточно света открытого огня. Я рвала, кидала, жгла, рвала, жгла, кидала.
В избе стало жарко, на лбу выступила испарина, по щекам текли то ли слезы, то ли капли пота: простоволосая, в грязном залежанном халате, я была похожа на ведьму, варганящую в полночь приворотное зелье.
Сложно сжечь за раз две сотни томов, но мне это почти удалось — я стояла смену, как кочегар на пароходе, кидала и кидала книги, уже не раздирая, а лишь приоткрыв — страницами в огонь. Весь Бальзак, весь Чехов, русские сказки, таджикские сказки, Андерсен. Когда мы читали «Русалочку», Павлик плакал навзрыд. Я вспомнила это и заревела сама:
— На тебе «Огниво», на тебе «Дюймовочку», вот он, твой «Оловянный солдатик»!
Кирпичи раскалились — не дотронуться, остро запахло подгоревшими грибами. Забыла, положила сушить на русскую печь четыре нитки отборных белых и сожгла их. Вовремя заметила, смела веником в совок, бросила в печь. Трубы над избой дымили. Наверное, так дымили трубы «Варяга», когда на всех парах он спешил к месту своей погибели.
Дождь перестал, ветер разогнал тучи — на небе проступили звезды. Я открыла дверь, чтобы прогнать чад, вышла на крыльцо. Полная луна висела над близким лесом. Она разогнала черноту, окрасила все вокруг в нереальный цвет, манящий и бесстрастный. Ветер стих, деревья стояли напряженные, как тетива.
Глотнув свежего воздуха, вернулась к своему крематорию: тяга была отменной, трубы протяжно гудели, беззвучно бились о кирпич великие слова и осыпавшиеся буквы, и исчезали, как то, что нельзя возвратить, восстановить, переписать заново. Разъятое слово перестает что-либо значить, обращается в ничто. Как тело, которое после вскрытия меньше, чем труп.
Я села на табуретку напротив русской печи, оперлась на кочергу, закрыла глаза, но не заснула, впала в странное состояние, когда сон — не сон, но и явь — не явь: мысли стали образами и застрочили перед глазами, словно нарезанные в беспорядке кинокадры. Когда очнулась, ночь уже отступала, вот-вот должен был запеть Лейдин петух. Зола еще дышала, колыхались в ней запекшиеся, покореженные листки, принявшие мучительную смерть. Воистину, сказал мне однажды Сирожиддин устами какого-то своего мудреца, за одну бессонную ночь узнаешь больше, чем за год сна!
Я встала с табуретки, опустила лицо в ведро с водой, охладилась, надела брюки и сапоги, накинула на плечи ватник, покидала в рюкзачок картошку, лук, буханку хлеба, спички и соль, жменю карамелек, походный котелок и перочинный ножик. Вышла на крыльцо. Тихим шагом пересекла поляну — Карай, Лейдина лайка, вылез из конуры, отряхнулся, прогоняя сон, покачался на передних лапах, зевнул, но не залаял, мы с ним были друзья. Я шла через пустое, давно не засеваемое поле в сторону леса. Куда, зачем — не имело значения.
Нужно было идти — переставляла ноги. Скоро оказалась в лесу, прошла первую и вторую поляну, где собирала грибы, перешла ручей в зарослях шиповника и сильно пахнущей дикой смородины. Взяв ручей за ориентир, двинулась к его истоку. Начался подъем в горку. Ноги тонули в мягком, мокром мху, бесшумно, как рыба в воде, удалялась я от приютившего меня Карманова — места моей официальной прописки.
10
Шла целый день. Ручей скоро кончился — он вытекал из длинного болота. Обошла его стороной, по наитию повернула направо. Когда хотела — останавливалась, находила сухое место, чаще всего под большой раскидистой елкой, сидела, отдыхала. Несколько раз с веток впереди срывались выводки рябчиков. Они шумели крыльями, словно это были не маленькие птички, а летающие слоны. Зато когда неожиданно сбоку поднялся из черничника глухарь, треск стоял такой, что от испуга я бросилась на землю. Если птицы в состоянии нагнать страху, то что говорить о зверях — мне стало неуютно, но возвращаться назад было стыдно. Громко вздохнула и зашагала дальше, порой становилось весело, словно я вышла прогуляться, а не удирала опять из пункта А в пункт, названия которого я не знала.
Сильный дождь, ливший несколько дней, прекратился еще ночью — засветило солнце. Временами я снимала ватник, несла его в руках. Лес вокруг все больше был смешанный: береза, осина — елку и сосну планомерно и хищнически уничтожали все кому не лень: и крестьяне, и колхоз, и леспромхоз, и главные губители — летучие бандитские бригады. Они забирались куда им надо, торили временную дорогу и выгрызали самое сладкое — столетние мачтовые деревья, отхватывали прямой шестиметровый ствол от комля, если выходило, то и два стандарта, остальное — ветки, макушку — бросали как попало, даже не сгребали остатки в кучи. Понятно, что на воровских делянках не высаживали по весне молодые елочки — место становилось гиблым, не проходимым для человека. Бандиты кормили власть, поэтому на их зверства не находилось управы. Куприян — главный лесогубитель, говорят, даже состоял помощником депутата. В разоренном крае, где закрывались заводы и фабрики, сокращались посевы и гибли трактора, лесопилки вырастали, как грибы. Выгоду приносило только воровство леса. Чудовищные «КрАЗы» разбивали в хлам проселочные дороги, днем и ночью вытаскивая лес к асфальту. Там древесину перегружали в купленные в Финляндии бэушные «фискры» и увозили в питерский порт, чтобы поскорей отправить ее за границу. И все же лес кормил немногих, большинство сидело на картошке, запивая ее гидролизным спиртом и, разучившись работать, воровало все, что плохо лежит.
В этом лесу постоянно чувствовалось присутствие людей — дороги, ведущие в никуда, пластиковые воронки для сбора живицы — елового сока, из которого изготавливали скипидар, чугунные останки тракторов. Встречались и отесанные топориком столбы — границы кварталов — своеобразный лесной компас. Химический карандаш на метке расплылся, превратив буквы и числа в загадочные иероглифы, в письмена кикимор и леших. После захода солнца булькающий, гортанный, полный всхлипов и стонов голос леса возникал, словно из ниоткуда и так же в никуда проваливался — не язык даже, а пунктир звуков-позывных, перекличка древних сил, приглядывающих здесь за столетиями копившимся добром. Испоганенные человеческой алчностью лесные пробоины зарастали малинником и кустами, превращаясь в места зимних кормежек лосей, — те умудрялись проходить по завалам, объедая сочные верхушки веток и мелких деревьев.