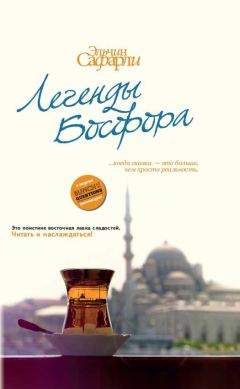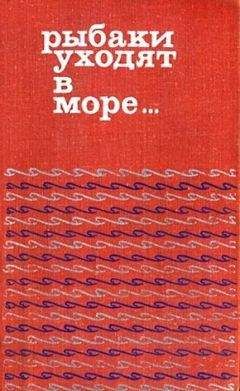Возможно, и я, и Белый Город были гораздо лучше подготовлены к этой новой встрече. Он помыл голубые ставни на домах, высушил их вездесущим горячим солнцем, а я стала терпимей или мудрей, окончательно осознав свою привязанность к Востоку. Так, я прожила здесь уже десять лет. Вернулась к мужу, нашла работу, обзавелась подругами. Марокко овладел моим сердцем, и я наконец-то смогла назвать его Моим Городом…
* * *
Как это было у бессмертной героини Нонны Мордюковой? «Ну хорошо, тогда Стамбул — город контрастов». Больших контрастов, чем в Касабланке, наверно, не найти нигде. Она не просто разная, она и мне позволяет быть разной. Проживаю здесь множество жизней, играю множество самых неожиданных ролей.
Вот я натягиваю желябу[52], покрываю голову платком, маскирую серые глаза темными очками и отправляюсь на Кесарию или сок[53], легко торгуюсь с продавцами, возмущаюсь высокими ценами, смеюсь их лукавым шуткам, а они, чувствуя легкий акцент в моей речи, думают, что я берберка[54], ведь рядом со мной балуются два черноглазых ребенка. Я ухожу довольная, купив полтумана по рублю…
В иные дни я становлюсь спешащей деловой женщиной, обнажаю свою короткую стрижку, подкрашиваюсь, надеваю строгий костюм, сажусь в машину и еду на работу. На моем языке перекатываются французские слова, сочные и влажные. Со времен Протектората[55] французский стал вторым языком образованной части марокканского общества. Мне в них очень уютно, и в языке, и в обществе. Кого я изображаю сейчас? Я и сама не знаю. Француженку ли, англичанку, испанку… Встреченные мной люди высказывают разные предположения. В любом случае, я — работающая дама, что очень ценно на Востоке. Благо таких в деловом центре Касабланки во время ланча уже много…
Мой Белый Город продолжает иногда испытывать меня. Это происходит, когда наступают праздники по местному календарю. Священный месяц Рамадан — время поста, мусульмане воздерживаются от пищи, питья и курения в течение всего светового дня, но отрываются с наступлением темноты и выползают из-за столов с лопающимися животами. Или кровавый день Барана, время приносить Аллаху жертвы. Почти каждая семья покупает живого барана, привозит домой, а в день праздника режет его на крыше, в саду или прямо в квартире… Мне непонятна их радость, мне неприятно их оживление. Я не хочу наряжаться и бегать по гостям, мне невесело. Улицы и площади заполнены оживленной, разнокалиберной, разнокожей толпой, а мне горько и пусто. Я отчетливо понимаю, что чужая, и на этот праздник меня не приглашали. В такие дни я сижу у телевизора у себя в салоне, смотрю с утра до вечера старые советские фильмы.
Мне до слез начинает хотеться «русскости», самоваров, душевных разговоров и подмосковных вечеров. И мой Белый Город спасает меня от приступов хандры, здесь, как в Греции, — все есть, здесь возможно все. Мы, русские женщины Марокко, находим друг друга, собираемся, устраиваем обычные посиделки на кухне. Родная речь позвякивает в ушах, шутим и сплетничаем, попиваем черный, привезенный из России, чай. Я чувствую свои корни, теперь я — своя среди своих, и боль в сердце, растревоженном ностальгией, утихает…
Приходит лето, и меня, лицедейку-любительницу, поджидают новые роли. Мой город меняет добропорядочное выражение своего лица на легкомысленное и принимает туристов и отпускников. Улицы запружены машинами с европейскими номерами, однако за рулем сидят марокканцы! Уехавшие на заработки или уже родившиеся в европах в семьях эмигрантов — в июле и августе они заполоняют город, помогают вырасти ценам на фрукты и овощи, ослабляют строгие законы, потому как сами уже давно переняли европейский стиль одежды и поведения. С радостью становлюсь одной из них, мы сидим с мужем в бесконечных уютных кафе, поедаем мороженое, попиваем кофе, мое лицо розовеет от удовольствия и загара, а руки увешаны позвякивающими серебряными марокканскими браслетами…
Я многолика. И он, мой друг и покровитель, мой Белый Город, сохраняя неизменным цвет, имеет тысячу разных лиц. Его противоречия поистине впечатляют. Где еще увидишь на одной улице хромающего ослика, тащащего за собой тележку с плодами кактуса, и серебристый «Мерседес-кабриолет», которым управляет совсем еще юнец с напомаженными волосами?
В каком еще городе белоснежные виллы и дворцы аристократии мирно соседствуют с бидон виллями — разваливающимися хижинами бедняков? Где еще встретишь на пляже женщину в никябе[56], всю покрытую черным с ног до головы, со спрятанным лицом, в носках и перчатках, плескающуюся в океане в сорокаградусную жару рядом с девушкой в бикини?
В каких еще городах, на их окраинах, точно в фильмах ужасов, вьются в воздухе шуршащие черные пакеты, а под ногами валяется мусор, но жилища вылизываются, вымываются, вычищаются ежедневно до стерильной чистоты? И где еще упоительно вкусный пятничный кус-кус, который хозяйки выпестовывают по несколько часов, стоя на жаркой кухне, оставаясь на следующий день таким же изумительным на вкус, безжалостно выбрасывается?
Все это возможно только здесь, в шумной, дурашливой, уютной, безалаберной, владеющей моим сердцем Касабланке…
Я выхожу на улицу, и цветы в нашем маленьком жардане[57] обдают меня запахом мечты. Сегодня я не играю ролей, я просто знаю, кто я. Я та, что живет в своем времени и в своем Городе, я проживу этот день, если так пожелает Аллах, а вечером поднимусь на крышу, где крупные звезды Магриба[58], смешавшись с последними переливами азана[59], летящего с соседней мечети, пропоют мне нежную песню о моем Белом Городе, отходящем ко сну.
Запрет на себя
ЭЛЬЧИН САФАРЛИ
Запрет на себя
Когда жизнь отнимает у тебя все, кроме жизни… Той, которую люблю всем сердцем
Предисловие
Я долго думал, писать ли к этой повести предисловие. Тема, которой она посвящена, щепетильна, и в ее контексте любое мнение будет субъективно и может только спровоцировать новые споры. Но я рискну. Хочу коротко объяснить дорогому читателю, почему я решил опубликовать эту историю.
Работа над повестью длилась около полугода. Я проводил бессчетные дни за прослушиванием кассет, на которых герой повести рассказывает о своей судьбе. Детстве, юности, взрослении. Качество записи порой было настолько низким, что мне приходилось обращаться к помощи профессионалов, восстанавливая слово за словом повествование. К тому же мой невидимый собеседник использует разные языки, и мне потребовались долгие лингвистические изыскания, чтобы понять все сказанное. К чему была такая дотошность? Я боялся хоть как-то повлиять на искренность героя. Потому что искренность важнее всего не только в жизни, но и в творчестве.
Благодаря материалу этой повести я по-новому увидел, как сильно люди умеют ненавидеть и как велика их способность выживать в условиях самой жуткой травли и абсолютного, космического одиночества. Изложение каждой главы стоило мне не одной бессонной ночи. По правде сказать, я непрерывно испытывал потрясение. Это шокирующее повествование вдруг предстало передо мной как жизненный путь одного человека. Как особое мировоззрение, основанное на глубоких переживаниях. И никто не имеет права объявлять это мировоззрение хорошим или дурным.
Быть другим — это на всю жизнь. Это значит быть с начала и до конца наедине с собой, терзаясь своей особой участью. Есть немало людей, изгнанных за пределы социальной приемлемости, незаслуженно осужденных за «чужеродность». Эта повесть сейчас мне видится провозглашением права каждого быть таким, какой ты есть, и быть понятым, и насколько возможно — принятым. Эта повесть — не исповедь больного человека. Это история одиночества, которая может быть близка очень многим людям, вне зависимости от их сексуальной ориентации.
Я верю в толерантность.
Я верю в любовь и прощение.
Я верю в то, что каждый имеет право быть счастливым.
Эльчин Сафарли,
2 августа 2009 года
* * *
Есть два рода сострадания. Одно — малодушное и сентиментальное. Оно в сущности не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья. Это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страдания ближнего. Но есть и другое сострадание — истинное. Оно требует действий, а не сантиментов. Оно полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческих силах и даже свыше их…
Стефан Цвейг
17 января 2009 года
Около двух часов дня
Суетливый курьер DHL спрашивает мое имя, после чего протягивает коробку, обернутую в желто-красный фирменный полиэтилен.