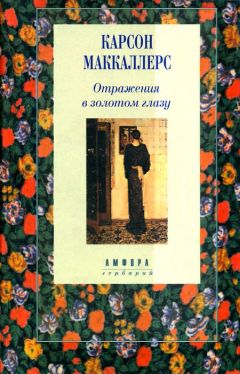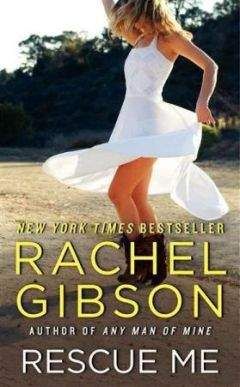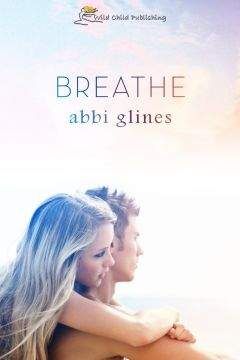— Как ты сюда попала?
Закон, одетый в синюю полицейскую форму, казался очень большим, а когда тебя арестовывают, лгать или отпираться — плохая тактика. У Закона было тяжелое лицо с плоским лбом и разные уши — одно было немного больше и слегка оттопыривалось. Допрашивая ее, он смотрел не в лицо ей, а куда-то поверх головы.
— Что я здесь делаю? — переспросила Фрэнсис. Она вдруг все забыла и, когда собралась ответить, сказала правду: — Не знаю.
Голос Закона, казалось, доносился откуда-то издалека, с другого конца длинного коридора.
— А куда ты надумала ехать?
Мир стал теперь таким далеким, что Фрэнсис больше не думала о нем. Она уже не представляла себе мир так, как раньше — весь в трещинах, свободным и вращающимся со скоростью тысяча миль в час. Земля стала огромной, неподвижной и плоской. Между Фрэнсис и разными странами возникла пропасть, как широкий каньон, перебраться через который нечего было и думать. Кино и морская пехота так и остались детскими мечтами, пустыми мечтами. Она ответила осторожно, назвав самое маленькое и безобразное место, какое только знала, — попытку убежать туда вряд ли сочтут большим преступлением.
— Во Флауэринг-Бранч.
— Твой отец позвонил в участок и сказал, что ты оставила письмо, что уезжаешь. Мы нашли его на автобусной станции, он сейчас заедет сюда за тобой.
Значит, это отец натравил на нее полицию и ее не заберут в тюрьму. Ей даже стало немного обидно. Лучше оказаться в тюрьме, где можно биться головой о стену, чем в тюрьме, стены которой даже не видишь. Мир стал таким бесконечно далеким, и теперь ей уже не стать участницей чего бы то ни было. К ней вернулись страхи этого лета, прежнее ощущение отчужденности от остального мира, и неудача со свадьбой превратила страх в ужас. Еще вчера она какое-то время чувствовала, что каждый встречный связан с ней, что они мгновенно узнают друг друга. Фрэнсис начала смотреть на португальца, который все еще постукивал пальцами по стойке в такт музыке, как будто играя на пианино. Он раскачивался, его пальцы сновали взад-вперед, так что мужчине у дальнего конца стойки пришлось загородить свою рюмку рукой. Когда музыка смолкла, португалец скрестил руки на груди. Фрэнсис сузила глаза и устремила на него пристальный взгляд, приказывая ему посмотреть на нее. Ему первому она накануне рассказала о свадьбе, но, когда он по-хозяйски осмотрел зал, его взгляд скользнул по ней, не узнавая. Она посмотрела на других посетителей, но их глаза были такими же чужими. От голубого света ей казалось, что она тонет. Тогда Фрэнсис уставилась на Закон, и в конце концов он взглянул на нее. Его глаза были фарфоровыми, как у куклы. И она увидела только отражение собственного тоскливого лица.
Хлопнула застекленная дверь.
— А вот и твой папа! — сказал полицейский.
Больше Фрэнсис никогда не упоминала о свадьбе. Погода испортилась, наступила осень. Произошло много перемен, и Фрэнсис исполнилось тринадцать лет. Накануне переезда она сидела в кухне с Беренис — это был последний день, когда Беренис работала у них; после того как было решено, что Фрэнсис с отцом переедут и будут жить вместе с тетей Пет и дядей Юстасом в новом районе на окраине города, Беренис сказала, что уходит от них — раз так, то ей проще выйти замуж за Т. Т. Был конец ноября, и близился вечер, на востоке небо краснело, как зимняя герань.
Фрэнсис вернулась в кухню, потому что в комнатах было пусто — всю мебель увезли на грузовике. В доме остались только две кровати в спальнях на первом этаже и кухонная мебель — все это увезут завтра. Фрэнсис уже очень давно не проводила дни на кухне с Беренис. Теперь кухня была не такой, как летом, которое, казалось, кончилось так давно. Карандашные рисунки исчезли под новой побелкой, щелястый пол был покрыт новым линолеумом. Даже стол передвинули на другое место, ближе к стене, потому что теперь некому было обедать и ужинать с Беренис.
Эта отремонтированная кухня, выглядевшая почти современно, ничем не напоминала о Джоне Генри Уэсте. Но тем не менее временами Фрэнсис ощущала его присутствие — властное, смутное, серое, как привидение. И тогда между ними воцарялось безмолвие, — как и при упоминании о Хани. Теперь Хани был далеко — в тюрьме — и должен был там оставаться восемь лет. В этот ноябрьский день такое молчание наступило, когда Фрэнсис готовила изящные сандвичи — в пять часов должна была прийти Мэри Литтлджон. Фрэнсис посмотрела на Беренис, которая сидела в кресле, вяло опустив руки, и ничего не делала. На ней был старый свитер, а на коленях она держала облезлую лисью горжетку, подаренную ей Луди много лет назад. Шерсть свалялась, мордочка казалась по-лисьи лукавой и унылой. Огонь плясал в кирпичной плите, и в кухне играли блики и тени.
— Я без ума от Микеланджело, — заявила Фрэнсис.
Мэри должна была прийти в пять часов, пообедать, переночевать у них, а утром поехать с ними в фургоне в новый дом. Мэри собирала репродукции картин великих мастеров и наклеивала их в альбом. Вместе они читали стихи — например, Тенниссона; Мэри собиралась стать великим художником, а Фрэнсис — великим поэтом или же крупнейшим специалистом по радиолокаторам. Раньше мистер Литтлджон работал в фирме, выпускающей тракторы, и до войны он с семьей жил за границей. Когда Фрэнсис исполнится шестнадцать, а Мэри — восемнадцать, они вдвоем отправятся путешествовать вокруг света.
Фрэнсис положила сандвичи на блюдо и добавила восемь шоколадок, а также соленый миндаль — это было ночное угощение, которое они съедят в двенадцать часов ночи, лежа в постели.
— Я ведь говорила тебе, что мы вместе совершим кругосветное путешествие.
— Мэри Литтлджон, — произнесла Беренис подчеркнуто, — Мэри Литтлджон.
Беренис не была способна оценить Микеланджело или поэзию, не говоря уже о Мэри Литтлджон. Вначале Фрэнсис и Беренис спорили из-за Мэри. Беренис говорила, что она толстая и белая, как пастила. Фрэнсис яростно защищала подругу. У Мэри были такие длинные косы, что она могла на них сесть, в них переплетались два цвета — пшенично-золотистый и каштановый; концы волос Мэри затягивала резиновыми колечками или завязывала лентой. У нее были карие глаза с пшеничными ресницами, а пальцы пухленьких рук завершались розовыми подушечками, потому что у нее была привычка грызть ногти. Литтлджоны были католиками, и Беренис даже тут вдруг проявила косность, утверждая, будто католики поклоняются идолам и хотят, чтобы миром правил Папа Римский. Но для Фрэнсис это различие в религиях придавало лишь оттенок необычности и жуткой таинственности предмету ее любви, которая от этого только усиливалась.
«Не будем лучше говорить об этом. Ты просто не в состоянии понять ее. Тебе это не дано», — так однажды она сказала Беренис и по ее внезапно потускневшим глазам поняла, что обидела ее.
Сейчас Фрэнсис повторила эти слова — ее рассердил многозначительный тон, которым Беренис произнесла имя ее подруги, — и сразу пожалела об этом.
— Во всяком случае, я считаю для себя большой честью, что Мэри именно меня выбрала своей самой близкой подругой. Из всех людей именно меня!
— Разве я хоть одно слово против нее сказала? — спросила Беренис. — Я только говорила, что мне противно смотреть, как она сосет свои крысиные хвостики.
— Косы!
Клин гусей, с силой рассекавших крыльями воздух, промелькнул над двором, и Фрэнсис подошла к окну. На рассвете иней посеребрил засохшую траву, крыши соседних домов и даже поредевшие ржавого цвета листья на дереве. Когда Фрэнсис обернулась, в кухне вновь царило безмолвие. Беренис сидела сгорбившись, упершись локтем в колено, прижав лоб к ладони. Ее живой глаз, весь в мелких красных прожилках, пристально смотрел на угольный совок.
Перемены начались одна за другой в середине октября. За две недели до этого Фрэнсис познакомилась с Мэри на розыгрыше лотереи. В те дни бесчисленные белые и желтые бабочки порхали над последними осенними цветами, и тогда же открылась ярмарка.
Все началось с Хани. Как-то вечером он накурился марихуаны, или попросту наркотика, а когда захотел еще, вломился в аптеку белого, который продавал ему эти сигареты с марихуаной. Его посадили в тюрьму, и он как раз ждал суда, а Беренис металась, собирая деньги, ходила советоваться к адвокату и добивалась свидания с Хани. Она появилась на третий день, совершенно обессилевшая, ее живой глаз был покрыт сеткой красных прожилок. Она сказала, что у нее болит голова; тогда Джон Генри Уэст тоже опустил голову на стол и сказал, что и у него болит голова. Однако на его слова не обратили внимания, все думали, что он просто обезьянничает, как обычно.
— Иди-ка отсюда, — заявила Беренис, — мне некогда с тобой дурачиться.
Это были последние слова, которые Джон Генри услышал в кухне дома Адамсов. Позже Беренис вспоминала их как Божью кару. Джон Генри заболел менингитом и через десять дней умер. До последней минуты Фрэнсис не могла всерьез поверить, что он умрет. Стояла чудная погода, повсюду цвели маргаритки, в воздухе порхали бабочки. Жара спала, но небо день за днем оставалось чистым, сине-зеленым, как волны на мелководье, пронизанном солнцем.