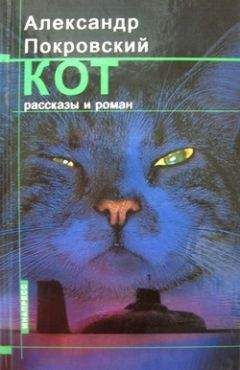После старушек хочется пить.
А потом, когда напился, хочется открыть наугад какой-нибудь философический текст и прочитать: «Первая часть простирается в поступательном направлении от бессознательных сцен или фантазий до системы Пыс».
После чего хочется закрыть, потом рыгнуть, потом сказать: «Каково?!»
– Сейчас будет пожар.
– Что?
– Пожар, говорю, будет, заросли Мельпомены!
– Какой пожар? Где? Дух, это ты?
– Это я. И незачем бегать по полкам. Вон и крысы совершенно разволновались, что и правильно. Я все еще не открываю глаза, и это так естественно, потому что люди…
– И ты так спокойно об этом говоришь?
– О чем?
– О пожаре.
– Ах, об этом. А чего волноваться, если я сам им его и устрою. На камбузе на раскаленную плиту выплеснется растительное масло. Ох, и полыхнет!
– Господи!
– Спокойно! Людям нужны подобные встряски. От беспечности они мудеют. Установим для них на три последующих дня период необычайной бодрости. Если их постоянно не шпынять, они меня, чего доброго, на самом деле спалят. Или утопят. Ну, я пошел. Сейчас мы их потревожим.
«Дзинь-динь-динь-динь-динь! – раздается в отсеке. – Аварийная тревога! Пожар в четвертом отсеке! Горит фактически!»
Никогда не видел, чтоб мой хозяин и Шурик, о чьем существовании я начал было забывать, так быстро ожили.
Шурик даже упал на четвереньки, пытаясь обуть тапочек, и так выполз из каюты.
По-моему, мой хозяин сидел на нем верхом.
А интересно все-таки, почему объявили, что «горит фактически»? Разве может гореть теоретически?
– У них может. У них все может. Они так объявляют, чтоб не подумали, что идет учение.
– И что теперь?
– Теперь герметизация отсеков, поиски средств защиты, тушение пожара и прочее, прочее…
«Второй к бою готов!»
– Видишь, как хорошо! «Задра… ено… загермети… зи… ро… тушится пожа…»
– Немного нервничают, тебе не кажется?
– И что теперь?
– Сейчас все потушат. «Потушен пожа… Отбой тревоги!»
– Заикаются, полагаю. Но это ничего, ничего. Это не страшно. Это пройдет.
Ну, я пошел, Себастьян. Встречай помолодевших героев.
Дверь в каюте с визгом уезжает в сторону. Появляется хозяин. За ним входит Шурик.
Последний не на четвереньках, и это радует.
Оба возбуждены и хороши.
Оба сияют.
Мой хозяин изрекает:
– Это коки-уроды! Качнуло – и масло пролилось, – тут он замечает меня: – О! Кот! А ты откуда здесь взялся?
Вы знаете, слов не подобрать, чтоб все то описать, но через мгновение его осеняет, и он бьет себя ладонью по лбу:
– Елки зеленые! Вот отшибло! Я же сам тебя приволок! – после этого хозяин начинает хохотать. Ему вторит Шурик.
Я думаю, тупость человека появляется именно здесь.
Именно в этом.
В подобных мелочах.
Его тупость в хохоте, в подбородке, в запахе, в поте.
И она от него отделяется. Я просто физически вижу, как она отделяется.
И летает по каюте.
А я пригибаюсь, я распластываюсь – вдруг в меня попадет.
– Точно такой же случай, – говорит между тем мой хозяин, – произошел с моей коровой Машкой!
Это, стало быть, шутка, и она вполне в духе последних событий.
– Ой, коки мои, коки, – продолжает он, – мать вашу… На экипаже Петрова эти бараны мыли лагун после супа и упустили туда мыльную тряпку. А лагун мыли, конечно же, для того, чтобы чай заварить. И заварили его вместе с тряпкой. Потом в кают-компании на вечернем чае старпом отпил из своего стакана чуть-чуть и говорит: «Мда! Нет аромата юга». После чего все тоже сделали по глотку и – хорош! А минер выпил один стакан и попросил добавки. Когда выяснилось, что там тряпку заварили, у минера спросили, чего это он два стакана выпил. «Из-за какой-то тряпки я буду менять привычку?» – был им ответ. О чем это говорит? О качестве минного офицера! Ой, сердешные, не могу!
Хозяин валится на койку.
Шурик тоже.
Оба плачут.
Я ошибся – это они так смеются.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.О смехе
Так вот об их смехе.
Так нельзя.
Это просто невозможно.
Неприлично.
Это просто совсем никуда.
Когда я впервые услышал, как смеется мой хозяин, я подумал: что-то взорвалось, истребилось, гнусно квакнуло, потом лопнуло, потом замерло, потом разразилось, потом покатилось.
Я был совсем крошкой, чуть обкакался и остался верен этому чувству на всю жизнь.
То есть я остался верен чувству осторожности.
К людям, когда они так смеются.
Потому что все же может произойти от этих взрывов внутри.
В частности, сидящий у них на коленях может лишиться и ума, и стыда одновременно.
И потом, хохот после пожара всегда так неожидан.
Я бы даже сказал, вульгарен.
Как, впрочем, и все шутки моего хозяина.
Вот вам образчик: по утрам, соскребая щетину у зеркала, он может заорать: «Что?! Бунт на корабле?! Всем оставшимся в живых нюхать мою пипиську!»
При этом у него вид сумасшедшего – толстый от естественных усилий природы, он становится еще пышнее, дышит, ноздри раздуваются, глаза лезут из орбит, а на затылке встает хохолок, как у старого заарканенного какаду.
То есть все атомы его существа находятся в том состоянии полного ликования, в каком пребывают только взнуздавшие друг друга влюбленные мухи.
(Кстати, я не знаю, почему у него на затылке встает хохолок, но готов поклясться, что не от шевелений разума.)
На этом глава о смехе моего хозяина заканчивается, и я умолкаю, чтоб не наговорить лишнего.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.Вот и Тихон
Входит Тихон.
– Только этого не хватало, – это сказал не Тихон, это сказал я.
– Никто не видел моей шапки? – это сказал Тихон.
Я всячески, насколько это возможно, выказываю свою глубокую личную заинтересованность.
Мне помнится, после случившихся весенних потоков я вернул шапку на место.
– Вот положишь вещь, – это опять Тихон, – а возьмешь потом обтруханый колпачок для редиски! Вот где она?
Он находит шапку:
– Дерьмо какое-то.
Когда речь идет о дерьме, ничего нельзя сказать определенно.
– Слоны ее, что ли, лизали?
Ну почему слоны?
– Точно, они… слоны.
– Да кому нужна твоя шапка! – говорит мой хозяин, лежа на койке.
Шурик вообще ничего не говорит. Шурик занят: он ковыряет в носу. Никогда не видел, чтоб из носа так тщательно все выгребали и систематизировали. Шурик серьезен. Он внимателен и осторожен, как туркменский археолог. Он сперва извлекает из носа козявку, оценивает ее, изучающе приближая к глазам, а потом уже перетирает.
– Твоя шапка, – говорит он неторопливо Тихону, не оставляя в покое козявки.
– …шапка твоя, – продолжает он, щелчками распространяя повсюду свои загогульки, – ходила гулять с моей шапкой. И чем у них закончилось это гулянье, сказать трудно, но по возвращении обе были утомлены.
Поначалу я полагал, что Шурик – полный кретин.
Теперь об этом можно спорить.
– Да, вот еще, – он все еще занят носом, – а что на нашем славном корабле делает твоя кроличья шапка?
– Я ее здесь забыл.
– После ссоры с любимой схватил самое драгоценное – и на корабль.
– Я в ней на рыбалку хожу.
– Иначе не клюет. Как наденешь эту лохомудь себе на клюкву, так вся рыба…
– Она вам мешает, что ли?
– Конечно! Конечно, мешает. А ты думаешь что? Что ни откроешь – оттуда вываливается твоя шапка. Отдай ее Басе, пусть он ее… месит.
– Пусть он лучше крыс месит, а мою шапку…
Я не стал все это дослушивать – улизнул в форточку.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ,сновиденческая
Известно, что санкюлоты не имели штанов. Это видно из самого названия (sans culotte).
Такое приходит в голову, когда ты бежишь в форточку, спасаясь от преследования.
Но ум!
Но мой собственный ум не перестает меня поражать.
И потрясать.
Вообразите, в момент беспорядочного бегства он занят поиском синонимов слову «санкюлот».
И он их находит. Это слова «голодранцы», «засранцы» и «пролетариат».
Я думаю, они могут быть употреблены в качестве ругательств.
И адресованы они должны быть тем убожествам, кто преследует другое существо за нетрадиционное использование старой кроличьей шапки.
Через какое-то время я вернулся, конечно.
Через ту же форточку.
И, когда я вернулся, у них царил мир, как в полевом госпитале: шапка лежала на своем обычном месте, и все ухаживали друг за другом, как это бывает с калеками, – поправляли постели, читали незрячим письма и рассказывали сны.
Я успел как раз на сны.
Говорил мой хозяин:
– …и по пустыне. И в этой пустыне где песок, где камень. И вот я иду там, где много камней. То есть не по камням, конечно, через пустыню проложена дорога, вот по ней я и иду. Вокруг никого, и вдруг сзади меня догоняет грузовик. Ничего не было – и вдруг грузовик. Мне становится страшно. Я бегу от него, а он за мной! Догоняет. Я устал. Останавливаюсь. И грузовик тоже останавливается. Я пошел – он поехал. Я остановился – он застыл. Тишина. Жара. Подхожу к нему, а он с затемненными стеклами. Кто за рулем – не разглядеть. Я беру палку – и по колесам, по кузову. И тут он поехал на меня. Я свернул с шоссе и бросился в пустыню – он за мной. Я петляю – он не отстает. И вот, откуда ни возьмись, возникает дом. Огромное здание. У него есть внизу узкий вход. Я ныряю туда, потому что уверен, что на той стороне есть такой же выход. Пробегаю по узкому коридору, выскакиваю наружу – и там меня ждет все тот же грузовик. Все. Я теряю сознание. Очнулся – лежу на больничной койке. Осматриваюсь – справа никого. Свет рассеянный и идет откуда-то сверху. Слева сидит человек в очках. «Вы чувствуете себя хорошо, – говорит он, – и я предлагаю вам прогуляться». И я действительно чувствую себя хорошо. Встаю и иду за ним. Место странное. Ему будто чего-то не хватает. Никак не пойму чего. Комнаты, коридоры, люди. Они молча кивают моему спутнику. Все очень заняты. Странный свет. «Мне нравятся люди вашего склада, – обращается на ходу ко мне мой спутник, – они надежны. Я как раз собираю таких. Вы их видите. Они идут нам навстречу. Это ученые, мыслители, поэты. Словом, люди нетрадиционного мышления. У меня тут целый город. Я купил землю в пустыне и перенес сюда свою резиденцию. Что будет, если положить на песок полый керамический шар, а потом начать убирать из-под него песок? Правильно, шар будет закапываться. У меня здесь сотни таких шаров диаметром до ста метров. В них мы и живем. Под песком. Между шарами гибкие переходы, наверх ходят лифты. Свет поступает с поверхности через систему зеркал. Вентиляторы гонят под землю воздух. Электричество я получаю от Солнца, ветра, атмосферного электричества и от таких маленьких проволочек: одна проволочка жарится на раскаленном песке, а другая находится на глубине сто метров.