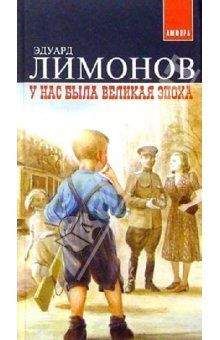Мать почему-то ошибочно полагала, что дети психологически более уязвимы, нежели взрослые, что, попав на кладбище, сын ее расплачется. Это был ее первый (и единственный, увы) сын, и мать не имела опыта, не знала еще, что ребенок прочно прикрыт броней непонимания. «Хорошо, — сказала мама, — но не плачь потом, что у тебя болят ноги, это очень далеко, а нести тебя на руках я не буду, ты уже тяжелый». — «Как в детстве?» — спросил он. «В детстве ты был толстый, потому мы тебя и звали «дядя Пуд», сейчас ты худенький, но ты вырос… Впрочем, что я говорю, ты и есть в детстве и еще, слава Богу, долго будешь в нем. Толстым ты был, когда тебе был годик. Если хочешь на кладбище, беги быстрее и надень старые сандалики. Эти натрут тебе ноги».
Он побежал и влетел в комнату, застал там тоже, оказывается, идущего на кладбище отца. И отец тоже переодевался. Он сменил портянки. Переодевшись, вдвоем они побежали вниз. Характерная деталь, не закрывая двери на ключ. В военном доме презирали семьи, запирающие комнату на ключ. Даже те, кто, может быть, и хотел бы закрывать, не закрывали, опасаясь остракизма коллектива.
В подъезде было прохладно, но, когда из подъезда они выскочили в раскаленный полдень, жара по-новому обожгла их. «Не самая лучшая погода для транспортировки покойных, — сказал отец. — Сидел бы ты дома, играл бы в коридоре. Я бы на твоем месте сидел бы дома». — «Мама сказала, что мне можно на кладбище». — «Ну, раз мама сказала… Приговор окончательный и обжалованию не подлежит, — и отец улыбнулся каким-то своим мыслям. — Я бы не пошел, но я ответственный за похороны. Служба, — отец показал на траурную черную повязку на рукаве. — Я бы лучше всхрапнул минут шестьсот», — сказал отец.
«Минут шестьсот — это сколько?» — «Это десять часов, — ласково сказал отец. — Десять часов сна — это очень хорошо…»
На Красноармейской они расстались. Надев фуражку, отец пошел в голову колонны, а сын побежал в хвост ее, где вместе с другими «иждивенцами» стояла мама. Из штаба вышли вдруг музыканты и, став у штаба, заиграли гулко во все мощные трубы, большие литавры и гулкие барабаны. «Пам-бам-пабам»! Пам-бам-пабам!» «Это траурный марш, — сказала мать. — Сейчас будут выносить тело».
С другой стороны Красноармейской, от вокзала, из-за угла, с улицы Свердлова стали сходиться привлеченные звуком труб гражданские. Став под акацией на тротуаре, спиной к выстраивающейся процессии и лицом к музыкантам, в белых перчатках, сжимая палочку, взмахивал ею дирижер майор Кулаков. При каждом движении палочкой твердый воротник кителя врезался в шею дирижера и оставлял на ней красный след. Большие трубы были надеты на музыкантов, лежали у них на плечах и, может быть, сквозь кителя обжигали грудь. Солнце как раз било в музыкантов, в то время как противоположная сторона улицы была в тени. «Бедные лабухи, — сказала мама. — Трубы, наверное, раскалены. Хоть бы дождь пошел».
Он не знал, что такое «баланс», но что «лабухи» — это музыканты, он знал прекрасно, сын музыкального отца. У отца было множество отношений с лабухами, и лабухи приходили к ним в комнату. Некоторых лабухов сын лейтенанта знал в лицо…
Мимо оркестра в штаб прошли отец и еще несколько офицеров с озабоченными лицами. Дирижер остановился, оркестр остановился вместе с ним, капитан Приходько, показавшись в дверях штаба, поднял руку, дирижер поднял палочку, и новая, еще более грустная мелодия выструилась из труб оркестра. Половинки дверей широко открыли, и из них вышел тот же капитан Приходько, в руках он держал красную бархатную подушку с траурной лентой по краю. На подушке лежала фуражка. Медленно ступая, четко кладя подошвы сапог на мягкий асфальт, капитан, держа перед собой подушку, направился в голову колонны. За ним на расстоянии в несколько метров стали выходить по два офицера дивизии, и у каждого в руках была красно-траурная подушка с орденом или медалью майора Солдатенко. В войну майор успел навоевать много орденов и медалей, поэтому офицеров и подушечек было много больше десятка.
Вслед за офицерами с наградами вышли с подобающе мрачными лицами начальник дивизии генерал-майор Малышев и полковник Сладков. За ними четверо офицеров почетного караула. Дойдя строевым шагом до края тротуара, они остановились и без команды совершили четкий поворот «кругом!». Подняли руки к фуражкам, отдавая воинскую честь показавшемуся в дверях гробу. В первой паре, подставив под гроб плечо, шел отец. Оркестр издавал мрачные и низкие звуки. Не имея никакого музыкального образования, ребенок не мог знать, что именно играет военный оркестр. Однако духовой военный оркестр, что бы он ни играл, всегда великолепен: благородные, звенели, напоминая о могущественном Риме и его легионах, литавры, злые, жалящие тоской флейты, бархатные трубы заливали сладостью боль от потери товарища.
Возлежа на плечах шестерых офицеров, майор Солдатенко поплыл вдоль тротуара под пыльными акациями, разрезая белым носом раскаленный полуденный воздух, и ребенок испугался, что низкие сучковатые ветки акаций исцарапают майору лицо. Иссушенная лапка акации отвалилась от дерева и упала майору на закутанные кумачом ноги. Теперь ребенок сумел увидеть, что майор лежит в мундире, и погоны всеми золотыми нитями, поймав солнце, казалось, горели на плечах майора.
«Куда папка его несет, мам?» — «К пушке, сынок. Он ведь на пушке на кладбище поедет». — «Мам, можно, я посмотрю?» Он получил разрешение и последовал за гробом. Дисциплинированные «иждивенцы» все остались на своих местах в колонне. Но многочисленные гражданские неорганизованно столпились, и рассмотреть происходящее человеку вынужденно маленького роста было нелегко. Он увидел, как гроб дрогнул и накренился кумачовыми ногами вниз, и его сложили ниже уровня голов. Протолкавшись меж гражданских поближе, он сумел, однако, рассмотреть фрагменты: зеленое крашеное железо пушки, дутые, как на «опеле», новые резиновые шины ее и Пушкин щит со щелью у ствола для наводки. Гроб установили за щитом. Пушка, он увидел, прицеплена к мощному грузовому автомобилю (американскому «студебеккеру» с открытым кузовом). Два офицера пронесли в кузов крышку гроба. Красноармейцы с траурными повязками стали по двое выходить из штаба дивизии с еловыми венками, украшенными цветами и лентами, и занимать место в колонне.
Он вернулся к матери. Вдова Марья Григорьевна и Евка, обе в черных платьях и черных платках, вышли из штаба, и начальник дивизии и полковник Сладков прошли вместе с ними вперед колонны и встали непосредственно за пушкой и гробом. Колонна вздрогнула, «иждивенцы» чуть сдали назад, музыканты заняли место перед «студебеккером», и под еще более мрачный, но мужественный марш, оповещающий Харьков о том, что герой войны умер, шествие тронулось, подымая пыль. Из окон выглядывало население и считало подушечки с орденами и медалями и венки. Подушечек было много. И население мысленно благодарило майора Солдатенко за его военную доблесть.
Сияющая бронза духовых инструментов, начищенные пуговицы и золотые погоны парадной формы офицеров, латунные, надраенные части затвора пушки, грузовик, затянутый в кумач и траур, венки в цветах и лентах с надписями золотыми буквами — все это великолепие жарко пылало в июльском зное… И пусть не Цезаря Августа, но майора НКВД везли через Харьков, но можно было ослепнуть от сияния…
От пышности похорон зависел в определенном смысле престиж дивизии. Ведь в городе стояли и другие «воинские части», как называл их отец. В них также кто-нибудь время от времени умирал или «погибал при исполнении служебных обязанностей». «Воинские части» негласно наблюдали за похоронами других частей, соревновались между собой — у кого похороны будут грандиознее. Разумеется, многое зависело от звания покойного. Скажем, похороны генерал-лейтенанта не могут быть сравнимы с похоронами простого пехотного лейтенанта, какого-нибудь «Ваньки-взводного». Генеральские похороны были зрелищем экстраординарным, и побывавшие на таковых помнили их и четверть века спустя. Однако майор Солдатенко имел репутацию отличного служаки. Пусть он и не дослужился до высших званий и майора получил уже больным, но на бархатной подушке, вслед за головным убором и личным, подаренным, маршалом Рокоссовским подаренным, немецким шмайсером несли Звезду Героя Советского Союза! Честно добытую кровью на Втором Украинском фронте, а не высиженную на заднице где-нибудь в Москве.
Милиция обязана была останавливать весь транспорт и давать похоронам дорогу. Военный патруль ехал в сотне метров впереди на «опеле», оповещая о грядущем прибытии кортежа. В нынешние времена покойника стыдливо прячут в глубину темного автобуса и спешно везут, как мясо в холодильнике, скорее с глаз долой. Сорок лет назад покойник был близок живому, и народ останавливался ради него, попрощаться, глядел, считал ордена, сожалел, разглядывал вдову и детей (если много детей шло за гробом, народу становилось легче). Если кто хотел, то мог прошептать что-нибудь индивидуально, вроде «До свидания, солдат…», или по-старому «Мир праху твоему», или даже перекреститься мог, если умел и считал необходимым. «Кого хороните?» — спрашивали гражданские с тротуаров.