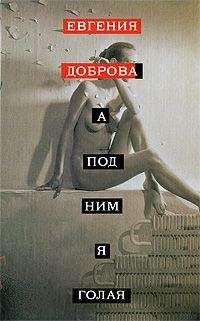Я заподозрила неладное – и вскоре стала свидетелем странной сцены. Валя решил приготовить на ужин салат оливье. Мы с Лялей дружно чистили картошку, сам он крошил соленые огурцы, когда в дверь позвонили; Валя вытер руки о джинсы и пошел открывать, это был Потап, в одной руке он держал свой неизменный полиэтиленовый пакет с изображением Бритни Спирс, а в другой баночку каперсов. Слушай, будь другом, попросил его Валя, сходи в овощной на углу, пока не разделся, купи полкило лука. Потап поставил в прихожей пакет, передал Вале каперсы, взялся было за дверную ручку… Знаешь, только у меня денег нет… Оштрафовали в электричке. Валя дал ему десятку, и По-тап ушел. Мы с Лялей переглянулись. Валя ничего не понял и вернулся к огурцам… Районная новость, сказала я голосом Левитана, супермаркет «Атланта» находится на грани банкротства. Процент недостач за текущий сезон в десять раз перекрыл прошлогодние показатели. – Что-что? – не понял Валя, – да нет, ничего, это я так…
А потом вдруг Потап исчез. Ляля забеспокоилась первой: вот уже несколько дней от него ни слуху ни духу. Мы сели держать совет. Нет, где он живет, никто не знает. Как с ним связаться – тоже. А вечером раздался звонок. Валя кивнул, и я сняла трубку. Приемник-распределитель? Курьяновская пойма? За что? – Не могу разговаривать. Он просил вам передать, расслышала я женский голос на том конце провода: догадки подтвердились.
Мы ответственны за тех, кого мы экзюпери. Ляля и Валя сгребли все, что нашли в холодильнике, и через пятнадцать минут стояли на автобусной остановке. Я с ними не поехала: отчего-то стало противно. Сославшись на то, что много работы, я отправилась ночевать к себе.
В распределитель их не пустили, дежурный поговорил через дверь, не сказал ничего, что проливало бы свет на эту историю, – передачу, однако, принял. Об этом я узнала от Вали по телефону, когда далеко заполночь они с Лялей вернулись домой. Оба нервничали, выдвигали гипотезы и не знали, что делать. Может, у него паспорта с собой не было, предполагала Ляля, – и его забрали для выяснения личности. До нас дозвониться не смог, а больше в Москве у него никого нет. – А может, с милицией подрался? – выдвигал контрверсию Валя. – Они ему что-то сказали – а он такой гордый! Вечно лезет на рожон. Да ничего с ним не будет, – сказала я Вале по телефону, – сейчас уже на допросах не бьют. Через месяц отпустят – получит два года условно… Потом только за границу не будут пускать – это да. – Как ты можешь так говорить! Еще ничего не известно! – Ты что, не видел, что происходит? Каперсы, осетрина, икра…
Послышались гудки. Валя швырнул трубку. Я опешила. Зачем-то набрала еще раз. Валя долго не подходил, потом все-таки взял телефон и, когда услышал мой голос, бросил трубку опять. Я позвонила Ляле на мобильный, что случилось, почему Валя не хочет разговаривать со мной? – А у нас умный телефон. Он сам отключается, когда по нему говорят гадости, сказала Ляля.
Боже, они сплотились против меня. Кворум.
Я испытала нечто похожее на тошноту. Я сняла со стены фотографию Вали и убрала ее в нижний ящик стола.
Прошла неделя. Потап появился в дверях Валиной квартиры внезапно: небритый, грязный и в наилучшем расположении духа. Что случилось?! – Я немножко нарушил закон. Можно, я у вас вымоюсь? За батон хлеба и триста грамм чеддера он даже условно не получил – отделался издевками судьи («не умеешь – не воруй!»), штрафом и легким испугом. Это я не доглядела, сокрушалась Ляля, надо было его хотя бы почаще кормить. Ему есть было нечего! Он же только еду воровал… – Ну, это еще не известно. – Он сам мне рассказывал…
Ничего себе, подумала я. Она все знала! «У нас умный телефон»…
Оказывается, она все знала!
Это было слишком. Я вдруг почувствовала странное. Я почувствовала, что потерять Лялю – как исход всей этой истории – мне гораздо досаднее, чем потерять Валю. Когда-то Розочка, теперь вот Ляля. И мы со вздохом, в темных лапах сожжем, тоскуя, корабли… Что делать, чтобы жить налегке, приходится ломать чужие пьедесталы. И все же: а может, они, пусть даже сиюминутные, люди-гости – для меня честь? Сомнительная – а честь? О Ляля, сиятельная Ляля! Кто расскажет теперь о старых ступенях парадного, о фамильных подсвечниках и столе на сорок персон? Я жадно ловлю слова о жизни до-нынешней, запредельной. Все, что старше меня хотя бы на жизнь, – мучительно любопытно, даже не так: болезненно любопытно. Лом времени, великая ржавчина лет – все то, дотянуться до чего я уже не могу – или еще могу: до афиш на стене Розочкиной комнаты, до флажка на блестящем капоте «ЗИМа», до края туники кариатиды в парадном дома Мурузи, там должна быть та улица с деревьями в два ряда, подъезд с торсом нимфы в нише и прочая ерунда; и прочая ерунда – все это манит, морочит, золотая россыпь времен, таинственно коловращаясь, оборачивается новыми гранями, и противостоять их сверканию, блеску нет сил! Сорока – до осколков калейдоскопа минувшего. Загоревшись, до пепла сгорают глаза.
А у них это было! И они еще держатся за витой чугун перил!
К Кустовым я пришла расстроенная – из-за Ляли и Вали. Здоров ли, князь, что приуныл ты, гость мой, Маша мурлычет арию из Бородина, у вас какие-то неприятности? Что-то случилось? Меня обидел один человек. Он мне… нахамил. Представляешь, Маша, – я с ним разговаривала, ночью, а он бросил трубку. Первый раз в моей жизни кто-то бросает трубку…
– Не расстраивайтесь… Сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Вам нравится Пушкин? Что-то сегодня все со мной откровенничают. В школе целых два стихотворения посвятили…
Еще бы не посвящать ей стихов. Очень хороша собой, русской красотой красива. Тургеневская, нет – Борисова-Мусатова девушка. Те же прически, локоны, призрачность, хрупкость – гостья летних усадеб, чаровница, пленительница… Где твой зеленеющий вертоград, где дворец с собственным садом, с французским парком, с вольерами, поляной муз и мраморными статуями вдоль дорожек? С прудами и водными лабиринтами, пещерами, гротами, ажуром легких мостов и клумбами роз? За твоей спиной вижу холод мая, цветение садов, гуденье пчел; лодка, скрип весла, на веслах мальчик в матроске, на корме девушка в белом, смеется, смех летит над водой…
А если не дворец и не собственный садик, то: усадьба, усадебный дом, флигель, белеющий сквозь гущу листвы, уходящие в глубь дубового парка аллеи, крутой спуск к реке, ротонда беседки, забытая книга на круглой скамейке, за домом – конюшни, псарни, за ними сад, в саду – затянутый ряскою пруд, с кувшинками, водомерками, стрекозами над водой. С соловьями в зарослях ив, с отраженьем Аленушки в темной глади пруда, почти недвижимой, лишь чуть волнуемой ветром. О дремотный пруд! Брюсов неточно перевел, у Басе было: фуруи, старый – он перевел: дремотный. И это брюсовское, перед дремой, «О!» – и гул, и вздох, и ох! – и ах! – то была дань поэта сонной воде. Только не Аленушка там, отраженная, вечная, а сама Маша. Дочка художников. Мусатовская красавица у своего водоема. Как же не посвящать ей стихов?!
– Сегодня опять приходила француженка. Та самая, которая пишет книгу о нашем доме. Зовут Анн Нива. Как речка, только через «и». Мы показали ей ваши портреты. А она: какое ускользающее лицо! Совершенно невозможно запомнить.
– Я ей тогда сказал, что это типично русское лицо, – вмешивается Максимыч. – Именно такими мы все и должны быть.
Ученики, услышав это, смеются. А то: до восстания китайских боксеров прадед торговал в Харбине и там женился на прабабке китаянке. Этим сказано все. Я вполне бы могла пройти кастинг на главную роль в кинофильме «Прощай, Китай».
– В жизни не встречала более навязчивого человека, – возмущается Тина. – Вранье все это про французскую галантность. Прицепилась к нам, как репей, со своим диктофоном. Ничего не понимает, все по пять раз переспрашивает. Четыре года в России живет – и никак русский не выучит. Уже одну книгу здесь написала, про Чечню: ездила туда в командировку. Она нам давала читать. Знаете, какое у нее было самое неприятное впечатление за эту поездку? Как рядом в машине сидела чеченка и у нее чудовищно воняло изо рта. Изо рта – дурно пахло. Самое отвратительное, что она видела в Чечне. Вы можете себе представить? Я – нет.
Ну так к чему я это говорю. Мы заболели гриппом. Все трое. Температура – тридцать восемь, ползаем, как вареные мухи. Звонит француженка – можно, зайду к вам? Я говорю: нет. Грипп, температура. Заразно, опять-таки. И вы знаете, что она сделала? Она отсчитала семь дней и пришла. Без предупреждения. Я, говорит, знаю, что грипп длится ровно неделю.