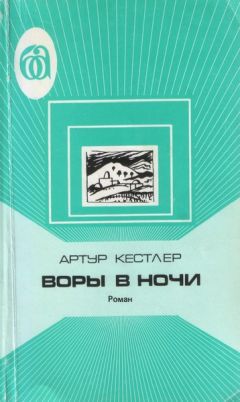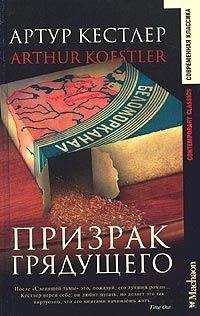Слуга-араб подал поднос с напитками, на нем же лежали три письма: напечатанное по-английски и на иврите приглашение на выставку тель-авивского художника, второе — по-английски и по-арабски — приглашение от владельцев цитрусовых плантаций в Яффе. Третье было короткой запиской, напечатанной на простой бумаге и только на иврите. Иврит помощник верховного комиссара едва знал, поэтому собрался было положить записку в карман, чтобы дать ее позже перевести, как вдруг в глаза ему бросилось слово «мавет»[21], напечатанное в разрядку. Он достал с полки словарь, опустился в кресло и начал разбирать письмо, посасывая свой арак.
— Зачем ты возишься с этим? — спросила Джойс.
— Занятное послание! — ответил помощник верховного комиссара, ища очередное слово в словаре. Через две минуты он кончил переводить.
— Вот послушай, — сказал он, и стал читать, осторожно держа записку за уголки:
«Помощнику Верховного комиссара, Иерусалим.
Полицейскому агенту и провокатору Ицхаку Бен-Давиду, проживающему по Бухарской улице, № 113 в Хайфе неоднократно посылались предупреждения, в которых ему предлагалось прекратить предательскую деятельность.
Ввиду того, что эти предупреждения игнорировались, руководство Иргун цваи леуми, выслушав представленные ему свидетельские показания, признало Ицхака Бен-Давида виновным в измене народу и приговорило его к смерти.
Приговор будет приведен в исполнение при первой же возможности».
— Да, забавно, — заметила Джойс.
— Не слишком забавно. Эти ребята не шутят. В результате того, что они называют «ответными действиями», они убили довольно много арабов.
— Арабы — другое дело. Но человека, работающего на нас, они убить не посмеют.
— Хотел бы я знать… — начал он, но тут вошел слуга, который доложил, что явились первые гости, — профессор Шенкин из Еврейского университета вместе с супругой.
Профессор Шенкин, пожилой, небольшого роста человек с козлиной бородкой, уже направлялся к хозяйке дома, кланяясь и протягивая руку. Его жена Ревекка, приземистая и смуглая, происходила из старинной иерусалимской семьи, которая проживала в стране больше ста лет. Ее отец, булочник из Старого города, нажил состояние на спекуляциях недвижимостью и владел несколькими домами в квартале Меа Шеарим. Он был набожным евреем и горячим противником политического сионизма. Дескать, в старые времена при турках, когда евреев было здесь всего несколько тысяч — в большинстве своем старые, святые люди, приехавшие в страну умирать, — мусульмане относились к ним терпимо. Ну, бывали изредка погромы, но разве их можно было назвать настоящими погромами? Зато сейчас, с приходом сионистов, с их разговорами о еврейском государстве, арабы ожесточились. Национальный фонд невероятно затруднил спекуляцию землей, безбожная молодежь в киббуцах оскверняет своим присутствием землю, а рабочие в пекарнях организовались в профсоюзы. Госпожа Шенкин в глубине души соглашалась с отцом, но никогда не спорила со своим мужем, выходцем из Бухареста и сионистом, хотя и умеренного толка. Она гордилась тем, что была женой профессора университета, а тот факт, что деньги ее отца сыграли не последнюю роль при заключении брака, ее ничуть не беспокоил. Разве ученый женился бы на дочери булочника, если у нее не было бы денег? В благодарность она родила ему пятерых детей, и их брак был очень счастливым.
Когда с приветствиями было покончено, госпожа Шенкин к своему смущению обнаружила, что оказалась у камина в обществе леди Джойс Гордон-Смит. Мужчины прошли в другой конец комнаты. Слуга предложил ей выпить, но она поспешно отказалась:
— Я не пью. Я не модная женщина, — пробормотала она на ломаном английском.
— Зато я пью, — лениво заявила Джойс.
Прислонившись к камину, она разглядывала макушку госпожи Шенкин, пытаясь определить, носит ли та парик. Сквозь жидкие, седеющие пряди волос госпожи Шенкин можно было разглядеть бледную кожу черепа. Нет, парика она не носила.
— Мы только что вернулись из Тель-Авива, — сказала госпожа Шенкин, чтобы завязать разговор, — навещали нашего второго сына, который учится в гимназии. Вы часто бываете в Тель-Авиве?
— Никогда, — ответила Джойс.
В Тель-Авиве она была всего раз, и уродливая архитектура этого еврейского города, его знойные улицы, его переполненные потной и шумной толпой лавочки показались ей так отвратительны, будто она вывалялась в муравейнике. Она любила ходить по арабскому базару, хотя там было еще больше толпы и еще больше запахов. Но то был настоящий Восток, а Тель-Авив — это просто средиземноморский Ист-Энд, помесь Уайтчепела и Монте-Карло.
— Разве вы не любите купаться в море? — спросила госпожа Шенкин. Сама она никогда не плавала в море, но справедливо решила, что Джойс должна была бы плавать.
— На море в Тель-Авиве слишком много народу.
— Да, в Тель-Авиве страшные толпы. Скоро там будет сто пятьдесят тысяч жителей, а двадцать лет назад не было никого. — Несмотря на свой антисионизм, она разделяла общееврейскую гордость этим городом.
Джойс не ответила. Она медленно пила сухой мартини, думая о своем недомогании. Эти толстые еврейки, наверное, много знают о лечебных травах и всяких таких вещах. Но как ее об этом спросишь?
В поисках темы для разговора госпожа Шенкин вытащила из сумочки фотографию и показала Джойс:
— Это мой сын.
— Очень мил, — сказала Джойс, едва глянув на фотографию. Однако она должна была признать, что этот стройный, светловолосый мальчик был в самом деле исключительно хорош. Как удалось двум безобразным людям произвести его на свет, было непостижимо.
— Он гений, — заметила госпожа Шенкин небрежно, — он переводит стихи Пушкина на иврит.
— Замечательно! — сказала Джойс.
— Да, он переводит Пушкина, хотя не знает ни слова по-русски.
Леди Джойс внезапно фыркнула в свой коктейль, представив, как расскажет в клубе о еврейском вундеркинде, который переводит Пушкина, не зная русского. Она опустила стакан:
— Как же ему это удается? — спросила она с некоторой, впервые появившейся теплотой в голосе.
— О, это очень просто! Его друг рассказывает ему содержание, а он пишет на эту тему стихи.
Слуга доложил о мистере Ричарде Метьюсе, и в комнату ввалился довольно неряшливо одетый и не очень трезвый американец. Познакомившись с Метьюсом в его прошлый приезд на обеде у Его Превосходительства, Джой сразу же его невзлюбила. Он был неуклюж, невежлив и самоуверен, — настоящий вульгарный американец. Однако за последние два года он стал довольно известен, а жене помощника верховного комиссара приходится принимать всяких людей. Сегодняшний вечер был организован ради него, а Шенкины приглашены потому, что в американских газетах часто пишут, будто к евреям здесь плохо относятся. Для равновесия Джойс пригласила также Кемаля Эффенди эль-Шалаби, редактора умеренного арабского еженедельника, но тот, как всегда, опаздывал.
Стояли у камина с бокалами в руках и с томительным ощущением бессмысленности происходящего, характерным для всех иерусалимских званых вечеров. Профессор Шенкин рассказывал путанную историю о раскопках у Мертвого моря и объяснял, почему они не удались. Время от времени помощник верховного комиссара с дружелюбной миной задавал какой-нибудь невинный вопрос, который тут же выявлял невежество профессора в археологии. Шенкин, однако, вовсе не был специалистом в области археологии, он был профессором философии, но никому не было известно, что именно было предметом его философских изысканий. За всю жизнь он опубликовал в еврейских журналах две работы: «Спиноза и неоплатоники» и «Талмудические влияния в германском средневековом мистицизме». Ходили слухи, что кафедру свою он получил благодаря родственнику в Америке, который был членом правления университета.
Наконец, прибыл Кемаль Эффенди — роэовощекий, жизнерадостный и элегантный. Он вручил хозяйке букет роз н с чрезмерной сердечностью поздоровался с Шенкиным, которого видел прежде только один раз, восемь лет назад на официальном приеме. Снова принесли напитки. Метьюс пил из огромного бокала виски с содовой. Кемаль потягивал маленькими глотками арак, изящно отставив мизинец. Профессор мусолил стакан сладкого тягучего местного вермута. Глядя на него, Джойс с содроганием вспомнила званый обед у Гликштейнов, на котором к рыбе подали сладкий кармель в ликерных бокалах.
Гости перешли в столовую. Джойс чувствовала легкий запах горелого. Плов подгорал, что случалось всякий раз, когда в дом приглашались евреи, хотя, каким образом повар-араб заранее узнавал об этом, — оставалось тайной. Впрочем, ей все они осточертели.
Кемаль Эффенди оказался в центре внимания. Спровоцированный каким-то вопросом Метьюса, он пустился рассуждать о политике.