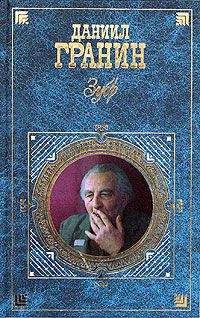— И, представьте себе, устроил! Было это хлопотно. После этого все равно с некоторым страхом я отправился в Восточное министерство сообщить, что не могу ехать, поскольку здесь устраиваюсь на работу. Принимал меня некий Врангель. Видимо, из тех. Представьте себе — обрадовался! Поздравил. Вот какие зигзаги случались.
Гребенщиков застал в буховской лаборатории других пристроенных — француза-механика, грека Канелиса (сейчас он в университете в Салониках, попутно отмечает Игорь Сергеевич), позже неведомым ему образом появился С. Варшавский из советских военнопленных (он слышал, что тот жив, здоров, работает где-то на Волге). Еще был Бируля, этого вывезли из Ростова эшелоном на работы в Германию. Впрочем, может, он тоже из военнопленных, но его оформили как вывезенного. Были еще голландец, секретарша-полуеврейка — фамилии ему позабылись. Непонятно было, каким образом Зубру удавалось всех их устраивать. Помогало, по мнению Гребенщикова, то, что Бух находился в стороне, в пригороде, во всех смыслах на окраине, ибо на науку гитлеровское начальство внимания не обращало, тем более — какое значение для войны могли иметь генетика, биофизика?
Гребенщиков предупредил, что ему известна из вырученных Зубром только малая часть, те, с кем непосредственно приходилось работать; были и другие, но кто, сколько — не знает, считал, что не вправе интересоваться.
Вскоре Гребенщиков смог выписать свою жену из Белграда и с головой влез в работу, которой его усердно загружал шеф. Жили голодно, недоед заставлял изворачиваться. Для кормления дрозофил выдавали патоку и шроты (кукурузную дербь), сотрудники отбирали у своих дрозофил это питание, посадили мух на голодный паек. Присылали кроликов для опытов по радиации. Облученные кролики в пищу не годились. По мере того как паек сокращался и голод увеличивался. Зубр решил подвергать кроликов слабому облучению. Опыты эти давали тоже любопытные результаты, главное же — слабо облученных можно было есть. Потом, однако, он решил их вовсе не облучать: наука подождет, лучше есть здоровых кроликов. Так и делали. Пиршества устраивали у Тимофеевых. Елена Александровна готовила кролика и приглашала всех. Когда кроликов не было, пекли пудинг из шротов и патоки. Зубр вываливал его на доску для «всеобщего пожирания».
— Он и здесь, в этой обстановке, оставался собирателем. Есть собиратели коллекций, я, например, собиратель жуков (я вам потом покажу свою коллекцию), есть собиратели знаний, он же был собирателем людей. Собирал он их не призывом к чему-то, собирал мыслеизвержением. Вулкан идей! Одному таланту достаточно писчей бумаги, другому — своей лаборатории, Николаю Владимировичу, Энвэ, как мы его звали, нужны были всегда и всюду слушатели. Ему нужно было делиться, раздавать, спорить, подначивать. Тогда у него высекалась искра нового. В общении.
Слушая Гребенщикова, я поглядывал на портрет, сделанный черным карандашом. В простенькой рамочке, застекленный, он висел над столом Игоря Сергеевича. Я люблю портреты в лабораториях. Они не бывают случайными. На этом портрете был изображен в профиль молодой, носатый, чубатый, губастый человек, и меня вдруг осенило — это же был Зубр тех лет, сорокалетний. Портрет сделал Олег Цингер, и Гребенщиков выпросил у него.
— …Что же касается искусства, то мы с ним все время спорили. Ведь это полный абсурд, что он нес про оперу! Переспорить его было невозможно. А его высказывания о Врубеле!..
Давняя досада ожила, заставила Гребенщикова вскочить. Морщинистое длинное лицо его слабо порозовело, он смущался своей горячности и не мог от нее отделаться.
Самые преданные ученики Зубра, говоря о своем учителе, сохраняют ироничность. Такова традиция — без слепого поклонения. Ничего похожего на пушкинистов, чеховедов, блоковедов, которые и слушать не хотят о каких-либо слабостях, недостатках своих кумиров, для них их изучаемый — совершенство.
— В Германии Энвэ после ареста сына стал ходить в церковь, чтил святых. Считал святых связующим мостом между богом и людьми. Молился о спасении сына.
— Как жили в Бухе? Что за быт был?
— Жизнь у Тимофеевых продолжалась, видимо, с довоенных времен самая что ни на есть простая. Мебель в квартире — с бору по сосенке. На стене несколько картин — подарки Олега Цингера. В столовой большой стол, за которым каждый вечер усаживались гости попить чайку. К русскому обычаю приучили немцев и прочих. После чая сидели в кабинете у самого. Там были диван, письменный стол, книги — научных немного, больше стихов. На ковре вытоптана дорожка, по ней носился весь вечер взад-вперед хозяин.
Об этой вытоптанной дорожке вспоминали многие. О каких-либо достопримечательностях интерьера не вспоминает никто. Зато всем немецким друзьям и ученикам врезались в память порядки лабораторной работы. Какие такие порядки — никто назвать не мог, но порядок был. Соблюдали его две ассистентки, преданные Зубру. И еще — была самостоятельность научных сотрудников. Весь стиль руководства Зубра состоял в «ферментативном» действии на сотрудников (выражение И. С. Гребенщикова). С административными обязанностями Зубр справлялся просто. Два раза в месяц приходил бухгалтер выдавать деньги. Генетический отдел помещался в отдельном флигеле, был автономен, никакой бюрократии не водилось.
— Если мне надо было какую-нибудь научную книгу или особый пинцет, я ехал в город, покупал и подписанный Энвэ счет передавал бухгалтеру.
С техническим персоналом Зубр вел себя аристократически учтиво. В самых тяжелых случаях, когда его просили сделать какой-нибудь нерадивой девице строгий выговор. Зубр соглашался неохотно, долго собирался с духом. Зато в научных спорах он бывал резок, груб и не стеснялся.
В той, гитлеровской Германии, бюрократичной, чиновной, затянутой в мундир, его свободность выделялась ярко. Пытаясь втиснуть его поведение в какую-то рубрику, немцы не нашли ничего лучше как именовать его Narren-Freiheit, что означает как бы право шута говорить то, что нельзя другим. А возможно, этим колпаком с бубенчиками они защищали его.
Перед отъездом Гребенщиков заставил осмотреть его коллекцию жуков. Открывал коробку за коробкой: крохотные жучки, ювелирно выделанные, и огромные, с ладонь красавцы, словно выкованные или отлитые из металла, рогатые, бархатно-коричневые, вороненые, рубиновые, черно-маслянистые Цвета чище, теплее, чем у драгоценных камней К цвету еще и разнообразие поверхностей. Убеждаешься, что живому существу природа дарит лучшие краски и фантазию. В одном только этом виде сколько выдумки. Недаром в древнем Египте жуки-скарабеи почитались священными, их вкладывали вместо сердца в мумии.
На улице, прощаясь, я спросил, почему поначалу Гребенщиков отказывал мне во встрече. Со всей деликатностью, со множеством оговорок он пояснил, что не представлял, для чего мне нужны сведения о Зубре, то есть он понимал, что раз я писатель, то собираю материал — но какого рода материал? Он читал мою повесть о Любищеве, и все же у него были опасения, отчасти извинительные, поскольку о Зубре ходят всякие домыслы, что, может быть, я собирался писать о нем плохое…
Наконец-то всплыла причина. Я рассмеялся. Мы так обрадовались, что крепко обнялись на прощание. Машина тронулась. Улыбка еще держалась на моем лице, но я понимал, что все обстоит не так уж хорошо, если опасения эти дошли и сюда, в дальний немецкий институт, и если из-за этого могут избегать встречи со мной.
Имя Сергея Николаевича Варшавского в наших розысках всплывало несколько раз, найти его было непросто, еще труднее было добиться от него ответа.
Выяснилось, что жил он в Саратове, работал там по своей специальности зоолога в институте. Несмотря на энергичную помощь Коли Воронцова, Сергей Николаевич долго отмалчивался. Видимо, по тем же соображениям, что и Гребенщиков. Наконец я уговорил его написать мне хотя бы вкратце о том, как он попал в Бух. Вот его воспоминания:
«Встреча с Николаем Владимировичем произошла в конце 1944 года, после того как мы, моя жена Клавдия Тихоновна, Иван Иванович Лукьянченко и я, пережив очередную бомбежку, бежали с фабрики Работали мы там в качестве остарбайтеров, после того как нас вывезли из Ростова-на-Дону в Германию.
На фабрике уже давно ходили слухи о том, что в одном из пригородов Берлина, в Бухе, живет русский профессор, который помогает советским и другим иностранным рабочим, вывезенным насильственно в Германию».
Строки эти были для меня чрезвычайно важны. В 1942 году Гребенщикову тоже посоветовали обратиться к некоему русскому профессору, который помогает иностранным людям. Следовательно, и в 1942 и в 1944 годах в Берлине циркулировала устойчивая молва о русском профессоре-вызволителе. Потом Гребенщиков в одном из писем ко мне уточнил, как это произошло. Оказалось, что он прослышал о Тимофееве на толчке, который крутился на Александерплац. Там был своеобразный рынок новостей, сведений, и среди прочих слух шел и о русском ученом.